О коммунизме и марксизме — 149
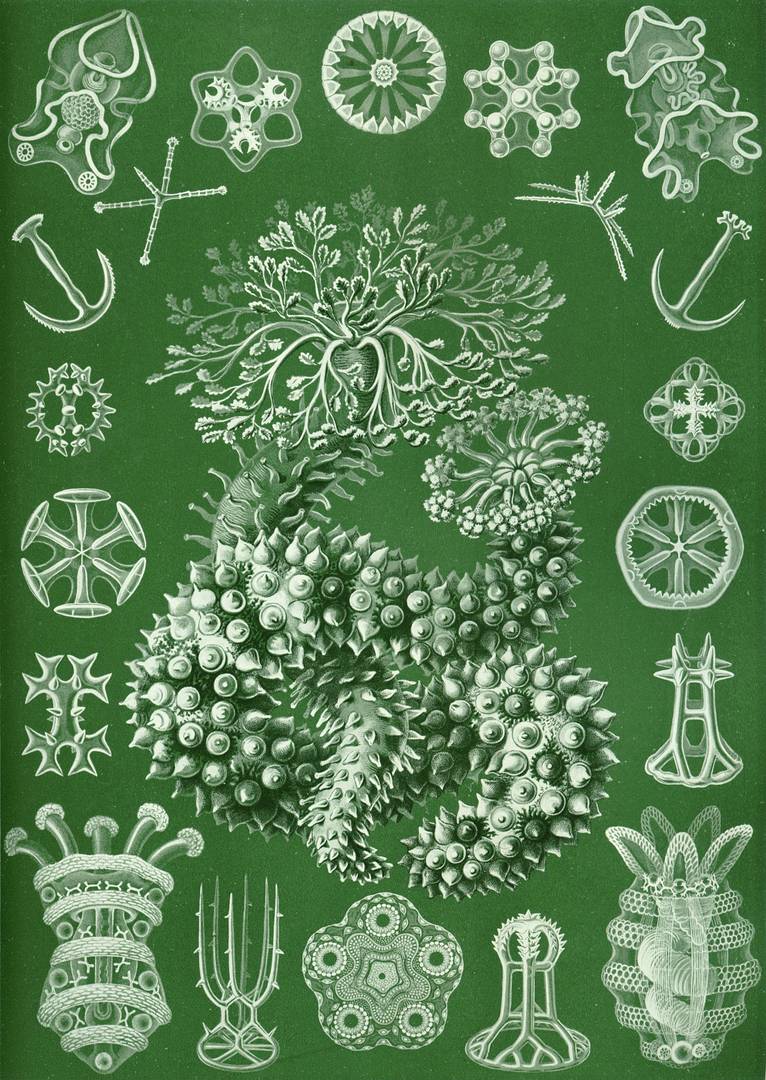
Порою очень крупного человека полностью поглощает стремление разрешить одну единственную волнующую его по-настоящему мысль. И тогда всё внешнее — встречи с другими людьми, прочтенные книги, случайные дорожные наблюдения, крупные или мелкие исторические события, свидетелем которых этот человек является, — становятся для этого человека средствами разрешения той единственной мысли, которая его терзает по-настоящему. При этом речь идет о терзаниях, ничуть не менее мучительных, чем самая острая физическая боль.
Да, у очень крупного человека в этом случае возникает особого рода боль. Но ведь что такое, читатель, даже наипростейшая собственно физическая боль? Это сигнал организма об определенном неблагополучии, на которое обладатель этого организма должен обратить внимание.
Почему обладатель печени или почек, сердца или легких может получить от этих органов сигнал неблагополучия, то есть боль? Потому что он с этими органами физиологически соединен наипрочнейшим образом. Потому что в силу такой связи он в каком-то смысле за эти органы отвечает. Потому что он не может жить, если эти органы будут наращивать свое неблагополучие.
А теперь представим себе, что очень крупный человек, такой, как обсуждаемый нами Герцен, сращивается подобным же образом не со своими почками или печенью, легкими или сердцем, а с чем-то совсем иным. Может ли такое сращивание быть столь же прочным, как то, которое дарует человеку матушка-природа в виде человеческого природного организма, части которого прочно связаны, что позволяет человеку как целому ощущать болевой сигнал о неблагополучии частей, слагающих это целое?
У очень крупного человека такое сращивание возможно. Потому что очень крупный человек живет духовной жизнью ничуть не менее бурной и существенной для него, чем жизнь обычная, органическая, природная. Живя такой жизнью, очень крупный человек формирует систему духовных органов, некое единое духовное тело, тоже обладающее чем-то вроде отдельных органов. Если один из этих органов начинает наращивать неблагополучие, то для человека, живущего духовной жизнью, это так же нестерпимо, как нарастающая болезнь физических органов для человека, живущего обычной, природной жизнью.
И тогда начинает по-настоящему болеть не сердце или легкие, почки или печень, а нечто совсем другое. Понимаем ли мы с необходимой ясностью, каким именно образом сформировалась из туманности наша Солнечная система? Нет, конечно, но каким-то пониманием мы обладаем. То есть мы знаем, что эта туманность была и потом вдруг стала превращаться в систему сгустков, именуемых планетами. То есть нечто однородное и структурой не обладающее вдруг стало структурироваться. Не понимая до конца, как это происходит, и обладая по этому поводу как минимум со времен Иммануила Канта каким-то относительным пониманием, мы подобное структурирование чего-то аморфного называем, в случае если оно создает планетарные или более масштабные системы, космогенезом.
Но ведь мы знаем, что структурообразование может происходить на очень разных уровнях.
Что такое знаменитые ячейки Бенара или Рэлея — Бенара? Это самоорганизация материи путем превращения относительно однородной вязкой жидкости в систему правильных шестигранных структур. Почему происходит подобного рода самоорганизация в лишенном сознания грубом материальном субстрате? Потому что имеет место избыточный градиент температур. На грубую однородную материю оказывается такое воздействие, на которое она может откликнуться только усложнением своей структуры. Ну так она и начинает усложнять эту самую структуру. Причем достаточно быстро. Гораздо более медленные усложнения происходят в сфере живой материи. Но ведь они происходят. И чем по большому счету является любой живой организм, как не совокупностью таких усложнений, то есть самоструктуризацией, создающей на месте примитивной однородности усложнение в виде тех или иных органов?
Да, воздействием называется эволюция. И что с того? Если абстрагироваться от природы воздействий, то мы можем считать создание органов и живого организма как их совокупности результатом некой структуризации чего-то однородного, становящегося в результате такой структуризации чем-то менее однородным.
И тут что Вселенная, что галактика, что Солнечная система, что планета Земля, что какие-нибудь вулканические образования с их особыми формами, что превращение примитивной жизни, основанной на относительно однородном существовании клетки, в жизнь менее примитивную, что формирование сложных молекул из чего-то более примитивного и однородного, что формирование атомов или кварков. Везде мы наблюдаем одно и то же — структурообразование под теми или иными воздействиями.
Итак, обычный биологический организм порожден именно таким структурообразованием, которое в результате определенного воздействия преобразует некую биологическую однородность в нечто, обладающее органами, связанными в единое целое.
И боль в ее обычном биологическом варианте — есть сигнал неблагополучия, подаваемый образованному в результате такой структуризации организму тем органом, в который этот организм вошел.
Почему же тогда не представить себе, что более сложные субстанции, например, отвечающие за мышление и чувствование, не могут определенным образом структурироваться? И что на месте какой-то невнятной начальной субстанции мышления в результате такой структуризации не могут появляться более сложные структуры, то есть специфические организмы, состоящие из специфических органов?
Мы не просто обязаны предположить такую возможность, мы всё время наблюдаем нечто подобное в виде творчества, превращающего смутную мысль о чем-то (о романе, симфонии, картине, спектакле) в тонкую структуру того или иного произведения.
Но мы наблюдаем и иные виды структуризации того, что можно назвать этой самой субстанцией мышления. Оставим в стороне восточную философию с ее настаиванием на существовании, наряду с физическим телом, тел более сложных, в том числе и тела ментального.
Оставим также в стороне все тысячелетние рассуждения далеко не глупых и не мелких людей о существовании духовного тела, свойствах этого тела, его связях с телом физическим.
Собственно говоря, непонятно, почему мы должны всё это оставить в стороне. Потому что, согласитесь, трудно поверить, что веками и тысячелетиями в условиях усложнения человеческой мысли и ее проникновения вглубь бытия могут совсем уж на пустом месте возникать всё новые и новые модели, предполагающие существование наряду с телом физическим еще и тел более тонких и сложных.
Но предположим, что все подобные представления являются беспочвенными заблуждениями. Ячейки-то Бенара ими явно не являются. И иные структуризации, включая космогенез, тоже такими заблуждениями не являются. В противном случае мы должны считать, что вся наука является заблуждением. А ведь именно ее авторитет, опирающийся на несомненные достижения человечества, требует, чтобы мы с осторожностью относились к тому, что эта наука отрицает. То бишь к разного рода телам, включая духовные.
Предлагаю читателю полностью подчиниться авторитету науки. Почему? Хотя бы потому, что любая другая позиция слишком легко рождает модели объяснения всего на свете. А интуиция подсказывает нам, что такая простота, избавляя нас от напряженного мучительного мышления, не дарует нам того, чего мы взыскуем на самом деле, — настоящего (созидательного, преобразующего и так далее) проникновения в глубины реального, невероятно сложного бытия.
Но авторитету какой науки надо подчиниться? Все корифеи современной науки в большей или меньшей степени оскоромились именно тем, от чего мы должны отказаться во имя авторитета науки как института. Почему я должен отказаться от мучительных размышлений по поводу духовной проблематики того же Паули, Дирака, Шрёдингера, Эйнштейна и многих других? Что остается от института, если вывести за его рамки мучительные раздумья создателей этого института?
Мысль Ленина о том, что электрон так же неисчерпаем, как атом, впечатляет своей гениальной прозорливостью. Но руководствуясь этой мыслью, я должен ориентироваться на то, что кварк так же неисчерпаем, как электрон. И что материя сохраняет структурность на субкварковом, а в итоге и субквантовом уровне. Но для того, чтобы на это ориентироваться, надо отвергнуть и постоянную Планка, и соотношение неопределенностей Гейзенберга. Но утверждая это, я должен посягнуть на авторитет такой науки, как квантовая механика. А еще я должен предположить, что исследовательская процедура, обеспечивающая проникновение вглубь бытия, не имеет неотменяемого материального носителя, способного разрушать или искажать то, во что он проникает. А ведь именно отрицание подобной нематериальности исследовательской процедуры и породило квантовую механику, благословленную не только отдельными ее создателями, но и наукой как институтом. А также позволившую человечеству резко усложнить его знания о тонкой и сверхтонкой структуре реального бытия.
Количество таких фундаментальных парадоксов стремительно нарастает. Концепция Большого взрыва и расширяющейся Вселенной в немалой степени поспособствовала росту парадоксальности всего того, что трудно совместимо с тем, что в новых условиях всё в большей степени становится верой в научную непогрешимость.
Пространство и время возникли на определенном этапе Большого взрыва? То есть их не было? А материя была? Она была изначально квантована или нет?
Современная наука как институт допускает в качестве одной из своих клеточек теорию струн со всеми ее парадоксами. Притом что никаких доказательств существования этих самых струн не существует. Но ими можно заниматься, не подвергая себя риску отлучения от науки как института. А духовными структурами заниматься без такого отлучения нельзя. Почему и как долго это продлится?
И всё же, во имя чистоты определенного исследовательского эксперимента, я буду говорить лишь о тех структурированиях сознания, переходящего от смутности к ясности, которые являются признанными наукой как институтом.
Признано ли этим институтом существование устойчивых очагов повышенной возбудимости нервных центров? А также того, что новые возбуждения, приходящие в такой уже сформированный очаг повышенной возбудимости, повышают возбуждение в самом очаге и осуществляют торможение в той части нервной системы, которая не входит в этот очаг?
Признано ли наличие таких очагов, они же доминанты, в респектабельной физиологии? Является ли русский и советский академик, физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942) нормальным представителем науки как института, или он изгнан из этого института?
Настаивал ли Ухтомский на существовании высших доминант, вне формирования которых невозможно творческое мышление?
Впрочем, для того, что я обсуждаю, объективность некой духовной боли имеет всё же второстепенное значение. Важнее то, насколько и впрямь крупные люди, погруженные в масштабную проблематику, ощущали реальность этой боли как чего-то особенного. Говорили ли они об этом? Пусть, в конце концов, их ощущение этой боли не связано с наличием структурно оформленного духовного организма, пусть эта боль не является сигналами, подаваемыми обладателю этого организма. Пусть она, что называется, субъективна. Есть ли она как нечто значимое в творческом плане? Говорил ли о такой боли только Герцен, возводя на себя напраслину, или об этом говорили и другие?
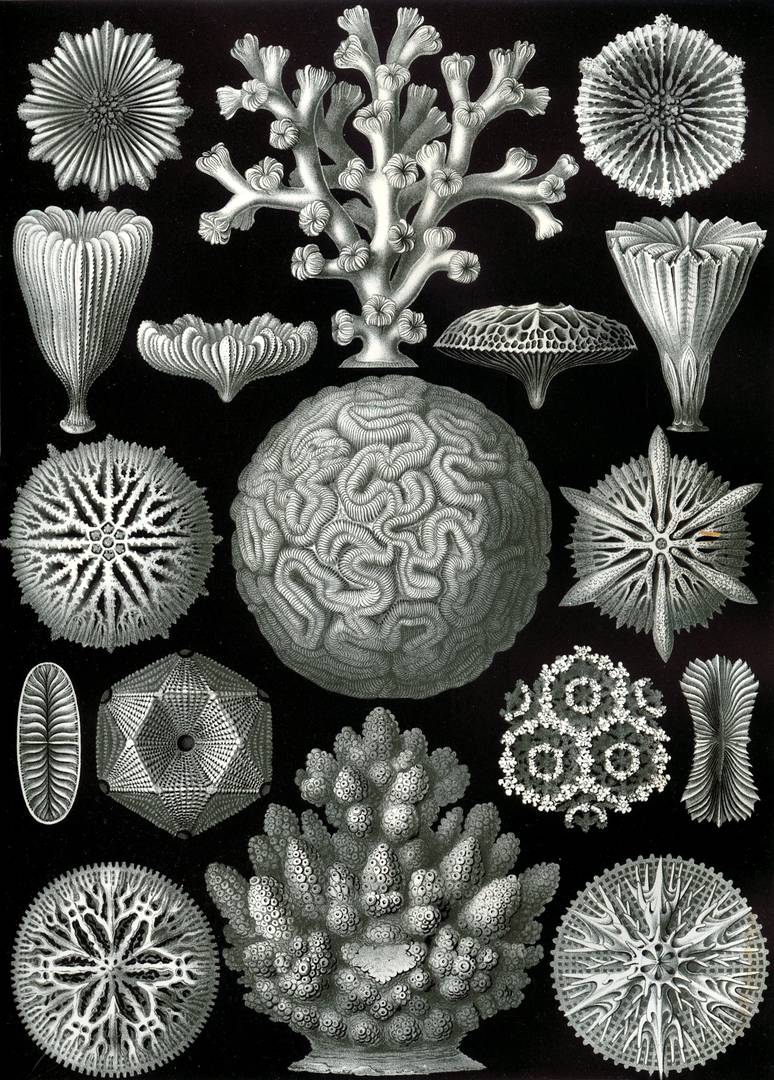
Мигель де Унамуно (1846–1936) — один из крупнейших мыслителей XX века. Именно ему принадлежат слова «У меня болит Испания». Он произнес их после продолжительной болезни. Беспокоящиеся о его здоровье почитатели спросили дона Мигеля, что у него болит. И он ответил им подобным, казалось бы странным, образом. Но так же отвечали многие.
У Герцена, безусловно, болела Россия. Но и не только. По моему глубокому убеждению, Герцен на вопрос, что у него болит, мог бы ответить, что у него болит История. И такой ответ был бы не кокетливой метафорой, а чем-то буквальным.
О такой исторической боли выдающийся немецкий психолог и психиатр Карл Ясперс (1883–1969) в своей книге «Истоки истории и ее цель» сказал следующее:
«Свершившееся настоящее заставляет нас бросить лот в вечные истоки. Пребывая в истории, выйти за пределы всего исторического, достигнуть всеобъемлющего; это — последнее, что, правда, недоступно нашему мышлению, но коснуться чего мы все-таки можем».
Будучи слишком сильно прикован к своему отечеству и постоянно осмысливая его судьбу, не интересовавшую сообщество европейских интеллектуалов, Герцен оказался не принят на Западе в качестве крупнейшего мыслителя своего времени. Да и в России он не был принят в качестве такового ни в досоветский, ни в советский, ни в постсоветский период.
Убежден, что это несправедливо до крайности. Но что Герцену в силу его личности и духовной устремленности было глубоко наплевать на то, как будут восприняты его духовные прозрения. История болела у Герцена до крайности. Но он всё время стремился не столько ориентироваться на эту боль, смягчая ее теми или иными прозрениями, сколько менять историю. И в этом неочевидное, но глубокое сходство Герцена с Марксом и Лениным. А также глубокое отличие Герцена от фыркающего по его поводу и одновременно паразитирующего на его творчестве Мережковского.
Герцен даже не исследует происходящее, используя для этого призму собственной исторической боли. Он с этой болью сосуществует специфическим образом. Он ведет с нею непрерывный диалог, преисполненный и специфического отчаяния, и столь же специфической веры. В том, что касается такого специфического сосуществования с собственной исторической болью, Герцен, повторяю, не одинок. Это свойственно и Ленину, который именно подобное в Герцене уловил, и Марксу, и многим другим выдающимся представителям «красной идеологии».
Но Герцен намного откровеннее Маркса и Ленина в том, что касается обнажения собственной исторической боли. У него, если можно так выразиться, больше права на эту боль. Он не руководит делающими историю людьми, которые могли бы усомниться в своем руководителе в случае, если бы тот стал слишком много говорить об исторической боли. И потому, исследуя эту боль у Герцена, мы можем что-то понять и в Ленине, и в Марксе, и в коммунизме как способе, с помощью которого человек строит свои отношения с Историей.
Вот что пишет Герцен о европейской истории, которая на тот период была решающим слагаемым истории мировой:
«Великие стихийные ураганы, поднимавшие всю поверхность западного моря, превратились в тихий морской ветерок, не опасный кораблям, но способствующий их прибрежному плаванью. Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани Реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизм, суровый в мелочах религии, постиг тайну примирения церкви, презирающей блага земные, с владычеством торговли и наживы. Либерализм, суровый в мелочах политических, умел соединить еще хитрее постоянный протест против правительства с постоянной покорностью ему.
С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией… западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться: всё, что ему мешало, утягивалось мало-помалу в тяжелевшие волны — как насекомые, захваченные смолой янтаря. Задыхаясь, испустил крик досады Байрон и бежал один из первых куда-нибудь… в Грецию. Стоически оставшись в Франкфурте, медленно задыхался Шопенгауэр, помечая, как Сенека, с разрезанными венами, прогресс смерти и приветствуя ее как избавительницу… Это нисколько не мешало повороту всей европейской жизни в пользу тишины и кристаллизации, напротив, он становился яснее и яснее».
Такие общие выводы, предвосхищающие всё, что было потом сказано о конце Истории, Герцен подкрепляет конкретными зарисовками. Наиболее яркая касается его встречи со своими знакомыми — Евгением Николаевичем и Филиппом Денисовичем, собирающимися покинуть исторически умирающую Европу и уехать в исторически перспективный Техас.
Герцен приводит такие слова одного из своих собеседников — Евгения Николаевича. Сетуя на исчерпанность европейской истории, Евгений Николаевич говорит следующее:
«Западные народы из сил выбились, да и есть от чего, они хотят отдохнуть, пожить в свое удовольствие, надоело беспрестанно перестроиваться, обстроиваться да и ломать друг другу домы. У них всё есть, что надобно, — и капиталы, и опытность, и порядок, и умеренность… что же им мешает? Были трудные вопросы, были любимые мечты — всё улеглось. На что вопрос о пролетариате — и тот утих. Голодные сделались ревностными поклонниками чужой собственности, в надежде приобрести свою, сделались тихими лаццарони индустрии, у которых ропот и негодование сломлены вместе со всеми остальными способностями, и это, без сомнения, одна из важнейших заслуг фабричной деятельности… а покоя всё нет как нет… держи войско, держи флоты, трать всё выработанное на защиту, — кто же, кроме войны, может покончить с войском?»
Герцен, оппонируя Евгению Николаевичу, спрашивает его:
«И все-то это для того, чтоб дойти до голландского покоя, и за эту похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями».
Читатель наверняка и без меня обратил внимание на актуальность этого герценовского вопроса о похлебке из чечевицы, во имя которой в постгерценовскую, постленинскую, постсталинскую эпоху советский обыватель распростится с лучшими мечтами и святейшими стремлениями именно так, как это предсказал Герцен. Но при всей важности данного предсказания, ничуть не менее важно то, что отвечают Герцену его собеседники. Филипп Денисович с улыбкой говорит Герцену, страдающему от самой мысли о возможном чечевичном исходе:
«А чем худо, есть сельди да вафли с чистой совестью и такой же салфеткой — в доме, который только что выстирали, с женой из рубенсовских мясов, и кругом мал мала меньше. <…> Ха-ха-ха, из чего бились все ваши Фурье да Овены!»
Апеллируя к Фурье и Оуэну, этим утопическим коммунистам, которых Ленин назвал предтечами Маркса, оппонент Герцена говорит буквально то, под чем охотно подписались бы и наши сегодняшние антисоветчики, и сегодняшние западные интеллектуалы, грезящие о конце истории. Здесь поражает только одно — насколько загодя было сказано всё то, что стало сейчас расхожим, всё то, что легло в основу разрушения СССР и коммунизма. При этом оппонент Герцена, как и наши сегодняшние антисоветчики, вовсе не склонен исчерпывать суть проблемы своей полемикой с утопическими коммунистами.
«Не они одни; — говорит он, — католики и протестанты, энциклопедисты и революционеры… все из чего бились?»
И далее говорится главное: «Не дошли же мы до того, чтоб лечиться от смерти, а ведь гробовой-то покой хуже голландского». Сказав это, оппонент завершает свою мысль следующим образом.
«Я вспомнил теперь одну немецкую книгу, в которой рассказывается о труженическом существовании крота, — очень смешно. Зверь маленький, с большими лапами, с щелочками вместо глаз, роет в темноте, под землей, в сырости, роется день и ночь, без устали, без рассеяния, с страстной настойчивостью. Едва перекусит каких-нибудь зернышек да червячков, и опять за работу, зато для детей готова норка, и крот умирает спокойно, а дети-то начинают во все стороны рыть норки для своих детей. Какова заплатная цена за пожизненную земляную работу? Каково соотношение между усилиями и достигаемым? Ха-ха-ха! Самое смешное-то в том, что, выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стоившие ему труда целой жизни, он не может их видеть, бедный крот!»
Приведя такие слова своего оппонента, Герцен тем самым начинает фактически выяснять отношения не с теми или иными историческими обстоятельствами, которые всегда носят преходящий и небезусловный характер, а с базовой метафорой истории. Что же это за метафора и почему она так важна — и для Герцена, и для других участников великой красной мистерии, которую по праву можно назвать «страстями по Истории»?
(Продолжение следует.)

















