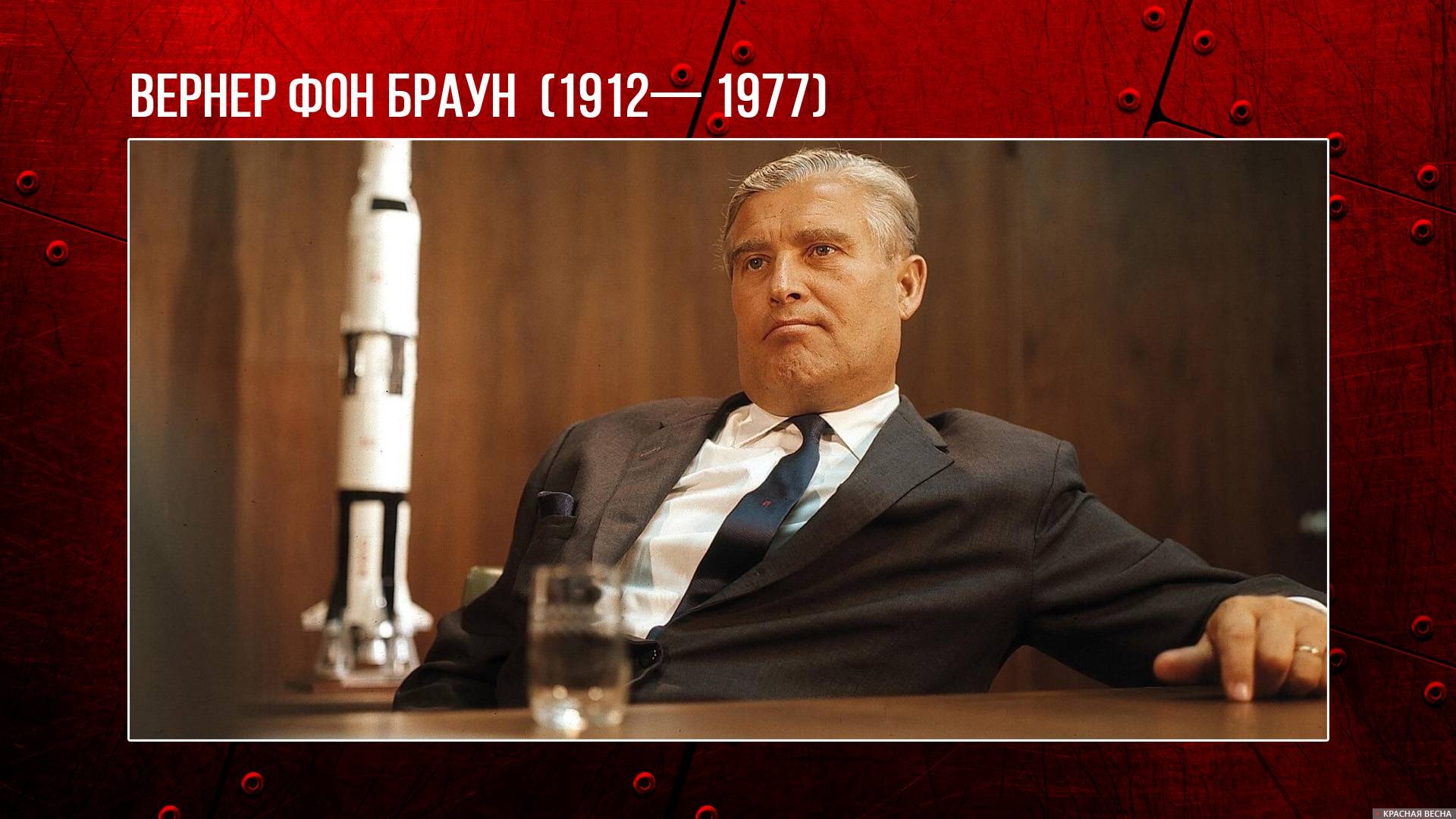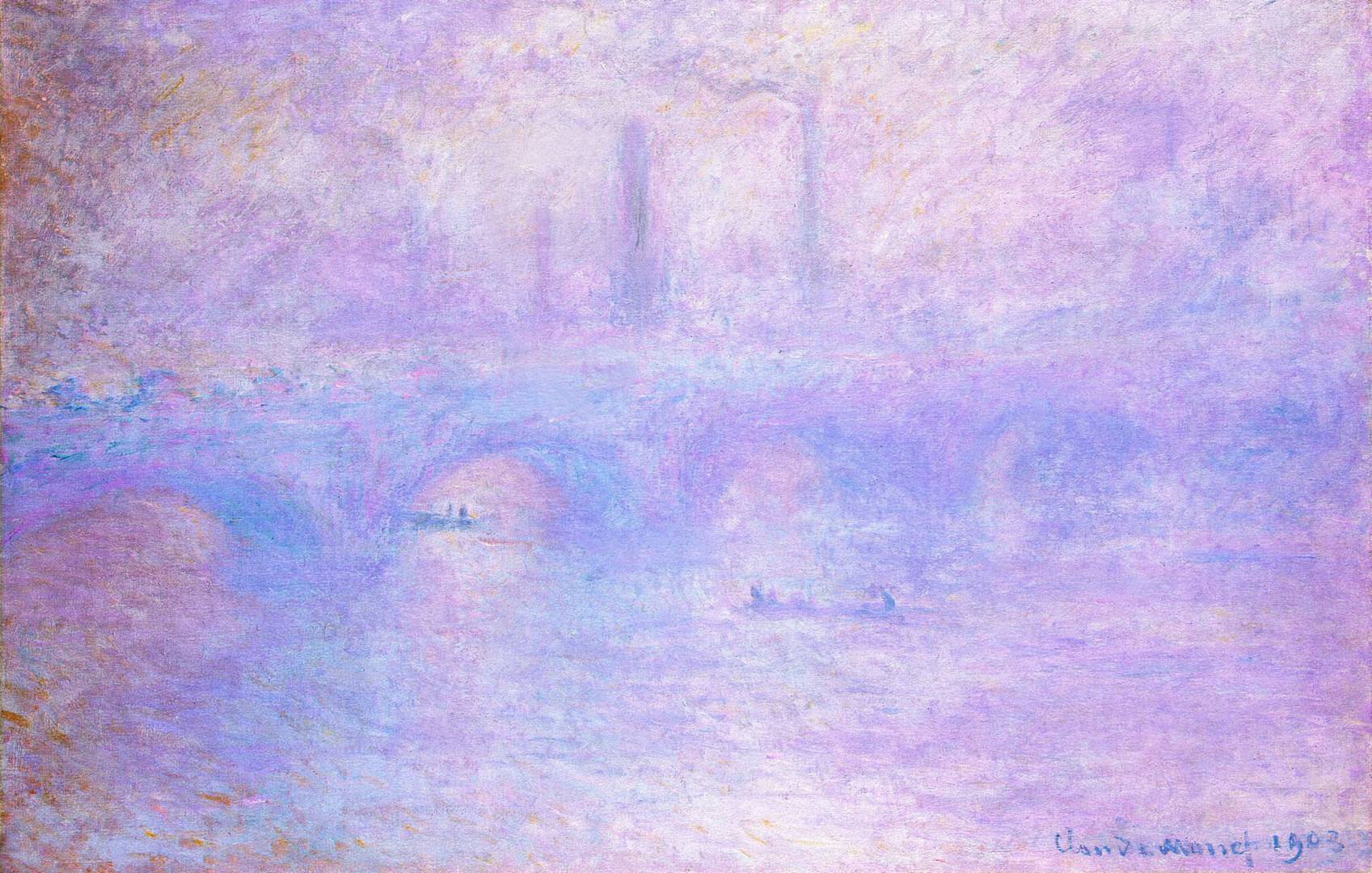Донбасс — 2019

Сражение в Донбассе продолжается. Оно не может не становиться всё более мрачным и судьбоносным.
Судьбоносным, потому что именно там, в Донбассе, решается вопрос о судьбе нашего государства, а значит, и нашего Отечества.
Мрачным же — потому что невозможно не видеть нарастающих двусмысленных несовершенств в том, за чью странную бытийность приходится сражаться, рисковать жизнью, здоровьем, терпеть душевные и духовные муки.
Идиоты и мерзавцы, смакуя эти несовершенства и эту двусмысленность, могут подвывать: «Пусть это рухнет, и тогда мы нечто соорудим на обломках».
Все порядочные и неглупые люди понимают, что на обломках мы ничего не построим. Что если «это» рухнет, то рухнет всё.
Но «это» не становится лучше от того, что осознаешь невозможность «обломочного» сценария. И как же тогда относиться ко всему сразу:
- к необходимости постоянного предельного, почти невыносимого напряжения, которое надо добывать из последних душевных и духовных кладовых, слыша вой даже не бесов, а каких-то сгустков постчеловечности;
- к необходимости нести ратный крест, видя, что происходит вокруг;
- к необходимости прорываться сквозь чудовищные двусмысленности, которые уже и предательствами не назовешь. Потому что предать может тот, кто имеет какую-то человеческую основу. А то, что происходит, даже не предательство, а трепыхание слизи — безвольной, жалкой, беспредельно жадной, своеобразным образом хищной и беспринципной.
Мне кажется, что именно сейчас, в начале года, не сулящего нам никакого, даже самого неполноценного и примитивного благополучия, надо поговорить о том, как относиться ко всему этому.
Не потому, что хочется сыпать соль на раны, — совсем другое хочется положить на раны бесконечно ценимых и любимых тобою людей.
А потому, что соль всё равно посыплется на раны. Потому что сыпет ее на раны сама действительность. И если к этому не предуготовиться, то и не выдержишь. А выдержать надо.
Сейчас я постараюсь самому себе, моим братьям, воюющим в Донбассе, моим соратникам по «Сути времени», ведущим свою войну, ничуть не менее тяжелую, хотя и совсем иную, ответить на вопрос о том, почему надо выдержать и как можно выдержать.
После краха СССР и советского коммунизма у нас было очень мало шансов на то, чтобы сохранить для нашего народа хоть какое-то минимально жизнеспособное государство.
Российская Федерация без специфических предельных усилий по преодолению роковой неизбежности должна была распасться вскоре после краха СССР. Сохранить ее можно было только при таких усилиях. Да и то негарантированно. И при полноте понимания того, что ценой этих усилий сохраняешь отвратительное, насквозь прогнившее и крайне бестолковое государство.
Если руководствоваться упрощенно классовым подходом и называть это государство буржуазным, то каков правящий класс, таково и государство. Русская буржуазия в XXI столетии по своему социальному качеству оказалась намного хуже русской буржуазии начала XX столетия. Между тем и та относительно качественная буржуазия оказалась несостоятельной в плане всего, что связано с продлением нашей государственной жизни на постромановский период.
Я много раз говорил и вынужден повторить еще раз в связи с трагичностью нынешней ситуации, что в Советском Союзе не было и не могло быть нормального легального первоначального накопления капитала. Что самые высокие заработные платы (у советского академика, если мне не изменяет память, заработная плата была чуть выше тысячи советских рублей) не позволяли этому представителю высшей легальной советской элиты накопить деньги, достаточные для создания даже приличной ремесленной мастерской. И уж тем более такой академик не мог накопить денег для покупки Уралмаша или Братской ГЭС.
Но предположим, что такой академик или кто-то другой мог бы чудесным образом купить индустриальный советский гигант.
Во-первых, надо понимать, о каком чуде тут могла идти речь. Речь могла идти только о фантастическом занижении в процессе приватизации стоимости объекта, о его продаже за бесценок, продаже, вызывающей всеобщее отвращение и представляющей собой модификацию воровства.
Во-вторых, даже при таком занижении стоимости объекта покупатель должен был бы откуда-то взять средства для запуска остановившегося огромного предприятия, для его превращения во что-то рентабельное. Откуда должны были взяться эти средства? Их тоже должно было подарить государство, обеспечивая, например, колоссальную инфляцию, при которой взятые кредиты не надо было бы отдавать. Или же преступно выдавая кредиты, которые не подлежали возврату. Или же… Или же…
Короче, даже в фантастическом варианте получения крупной собственности под контроль честным человеком, что-то этакое накопившим незнамо как, оказавшимся в нужном месте в нужное время и так далее, превращение этого человека в буржуа покупалось ценой совершения сразу ряда тяжких преступлений. То есть и этот человек, становясь буржуа, неизбежно становился представителем именно криминальной, а не обычной буржуазии.
А ведь я обсуждаю данный фантастический случай не потому, что он был возможен, а потому, что надо осознать всю масштабность и непреодолимость тупика, в котором оказалась страна, желающая в одну пятилетку построить буржуазное общество и буржуазное государство.
Исполнение этого замысла (а Ельцин исполнил именно его) могло привести только к построению криминального государства, опирающегося на криминальную буржуазию, и очень близкого по своей природе к так называемому пиратскому королевству.
Между тем и на апрельском референдуме 1993 года, и на декабрьском референдуме этого же года, и на президентских выборах 1996 года, и в дальнейшем народ не проявил воли к недопущению построения такого криминального государства. Ельцин был если не поддержан, то и не отодвинут с необходимой волевой решительностью. Притом что в 1993 году для такого отодвигания были все основания.
Произошло то, что произошло. Народ не сказал твердого «нет» ельцинскому проекту ускоренного построения буржуазного, а значит, криминального государства.
Вопли о том, что у народа не было выбора, что все остальные были намного хуже Ельцина, что не было альтернативных вариантов развития, меня не впечатляют.
Никто не может доказать, что Руцкой, Хасбулатов, а также другие не могли обеспечить управление Россией, а что мог это только один человек — Ельцин.
Никто не может доказать и обратного. Потому что, чтобы доказать обратное, нужно провести эксперимент, передав антагонистам Ельцина власть хотя бы на определенное время. А история — не физика и подобных экспериментов не допускает.
Всё, что мы можем констатировать, так или иначе сводится к какой-то странной тоскливой депрессивности общества, то ли просто уставшего от самого себя и тихо стыдящегося содеянного, то ли проявляющего крайнюю осторожность. Спит ли общество, как Илья Муромец на печи, с тем, чтобы подняться и начать вершить исторические деяния, или же оно напоминает дряхлого паралитика, мы опять-таки не знаем всё по той же причине. История не физика, и эксперимент в ней невозможен, а теоретические выкладки ничего не значат сами по себе даже в физике. А уж тем более когда внутри исследуемого, являющегося не неживой природой, а совокупностью субъектов, наделенных волей и разумом, текут разнонаправленные процессы. У атомов и молекул воли и разума нет. И страсти по великому деянию тоже нет. А у людей всё это в принципе может быть. Равно как и резервные возможности, которые разум и воля, слившись воедино со страстью по спасению, могут задействовать.
Надеяться на чудо мы тоже не имеем права. Потому что верующие должны руководствоваться тем, про что в народе говорится «на бога надейся, а сам не плошай», а для неверующих чудо является рукотворным и порожденным колоссальным сосредоточением воли, разума и страсти. А этого сосредоточения нет, как нет и резервных возможностей у данного крайне поврежденного макросоциума.
Между тем криминальность общества и государства работают неумолимо, накапливая ущербность тех сущностей, внутри которых они работают.
Дело не в том, что после Ельцина Россия не встала с колен. Она, конечно, не встала и не могла встать, но не в этом дело. А в том, что даже если после Ельцина ситуация в чем-то стала менее пагубной, то каждый год воспроизводства этой ситуации (криминальности общества и государства) накапливает то, что одни назовут потенциалом деструкции, другие — социокультурным ядом.

Россия медленно умирает. Надо сделать всё для того, чтобы она, осознав это, хотя бы вздрогнула и сказала этому «нет». Но сегодняшняя Россия и не осознает тупиковости собственной ситуации. И даже осознав эту ситуацию (а наш исторический долг ей об этом поведать), в лучшем случае вздрогнет, а не мобилизуется.
Так о чем же мы мечтаем, притом что без мечты жить нельзя?
По мне, так не о воскрешении или омолаживающем исцелении нашей Родины должны мы сейчас мечтать. Да, мы должны сделать всё возможное для этого воскрешения и исцеления, но мы должны еще и отдавать себе отчет в том, что подобный исход крайне маловероятен. Скорее, следует мечтать о том, чтобы эта больная и медленно гаснущая мать еще успела родить здоровое дитя.
Такое дитя — не революция, а нечто другое. Впрочем, и в 1917 году не революция спасла Россию. Революция спасла Францию в 1789-м. Революция как раз и есть кровавое и жестокое исцеление больной, возможное только если общество имеет высокий мобилизационный потенциал и может быть вдохновлено очень светлыми и очень накаленными идеалами.
А Россию в 1917-м, сколь бы большевики не грезили повтором якобинского политического и метафизического сценария, спасло нечто весьма далекое от жизнеутверждающей революции. Ее спасла посткатастрофическая сборка, осуществленная очень сплоченной группой численностью примерно в пятьдесят (а может быть, и меньше) тысяч людей. При том, что каждый в этой группе обладал огромной жизненной силой, обладал способностью мечтать и приносить жертвы на алтарь этой своей мечты.
Я не буду говорить о том, чем в проекции на реальную политику является моя метафора о больной матери и здоровом дитя. Уж точно не белоленточной псевдореволюцией, которая всё добьет до конца. И не большевистским партийным сгустком, готовым к любым жертвам во имя достижения своего идеала. Наш удел, увы, не порыв, а терпение и волевая неукоснительность. Пока что ничего другого нам не дано. Но это нам дано, и мы знаем, почему. Это нам дано потому, что мы вдруг обнаружили где-нибудь году в 1994-м, насколько самое безобразное русское государство лучше безгосударственности. Мы обнаружили также, что спасти безобразную государственность, притом что другой нам уже не дано, мы можем только жертвенным усилием, сплавив воедино любовь и отвращение.
Либо это — либо позор капитуляции и эмиграции, притом что эмиграция будет еще чудовищнее, чем та, на которую обрекли себя бежавшие от русской революции 1917 года.
У одного из моих близких знакомых в жизни случилось огромное горе. Он искал способ это горе пережить и не находил этого способа. Он сидел, уставившись в одну точку. Потому вдруг вздрогнул, встряхнулся и сказал: «Сломаться еще хуже, чем не сломаться». И начал выкарабкиваться из пучины беспредельного отчаяния.
То же самое произошло со всеми нами после 1991 года. Мы поняли, что вот-вот лишимся даже Российской Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями. И что для того, чтобы ее не лишиться, надо сильно напрячься, понимая, что ты спасаешь не благодать, а очень своеобразное безобразие. И что на алтарь его сохранения надо положить всё, что имеешь.
Такова наша принципиальная позиция. Тут, правда, есть одна зацепка, один лучик в темноте безблагодатной несломленности. Невесть в силу чего безобразная постсоветская Россия, насквозь криминальная и донельзя скверная по всем своим обыкновенным качествам, вдруг стала катить бочку на своих вчерашних кумиров — американцев. И говорить им, что они ведут себя недостойно, не соблюдают правил, движут мир невесть куда и так далее. Всё это было правдой. Но внимать такой правде из очень специфических уст мир не хотел ни в 1990-е, ни в 2000-е, ни сейчас.
Когда-то на одной из передач Петра Толстого я сказал: «Россия — это гнилое скверное бревно. Но оно запирает дверь, в которую ломятся псы ада». Один кремлевский аналитик — не то чтобы очень глупый, но очень обыкновенный — возмутился непатриотичности моей фразы. Мол, Россия — это вставшая с колен Родина, а не гнилое и скверное бревно. Но Толстого эта фраза, видимо, действительно поразила, потому что он ее потом постоянно повторял, когда мы пересекались на каких-нибудь телешоу.
С годами я понимаю, что был прав. И могу уже подтвердить правоту моей метафоры о бревне и запертой двери строгими аналитическими соображениями. Но об этих в чем-то утешительных подтверждениях — когда-нибудь в другой раз. Тем более, что утешение горькое. Рано или поздно гнилое и скверное бревно перестанет выполнять роль спасительного затвора.
И тем не менее есть что-то светлое в обнаружении того, что твое отечество даже в пагубном и скверном состоянии является катехоном.
Основным в системе мотивов, требующих предельного напряжения для сохранения нашего предельно несовершенного, предельно скверного государства, для меня является именно эта катехонная роль, она же — роль бревна, запирающего последнюю дверь и препятствующего вторжению.
Следующим по значимости в системе этих мотивов является априорная необходимость не сдаваться и понимать, сколь унизительна будет сдача.
И, наконец, имеет значение та надежда, которую содержит в себе образ крайне несовершенной матери, рождающей прекрасное дитя.
Почему-то мне кажется, что те, кто сейчас сражаются в Донбассе, а в общем-то, даже и в Сирии, или раньше сражались на Кавказе за целостность государства Российского, ориентируются на такие приоритеты.
Конечно, кто-нибудь из них более оптимистичен.
Но, во-первых, так ли много этих оптимистов?
А, во-вторых, если оптимизм ложен, то он не выдержит испытаний. А они нам предстоят. В этом нет никаких сомнений.
Я не могу сказать ни всем, кто живет на многострадальной донбасской земле, ни своим соратникам, поливающим эту землю кровью, ничего, кроме того, что сказал.
Надо верить в катехон и его видеть духовными очами.
Надо терпеть и не уклоняться с выбранного пути, понимая, в чем альтернатива подобной стойкости.
И надо смутно угадывать, что такое это дитя, рожденное весьма проблематичной и всё же любимой матерью.
Этим «Суть времени» в Донецке руководствовалась все последние годы. Благодаря этому она что-то смогла сделать. И да будет так в будущем.
До встречи в СССР!