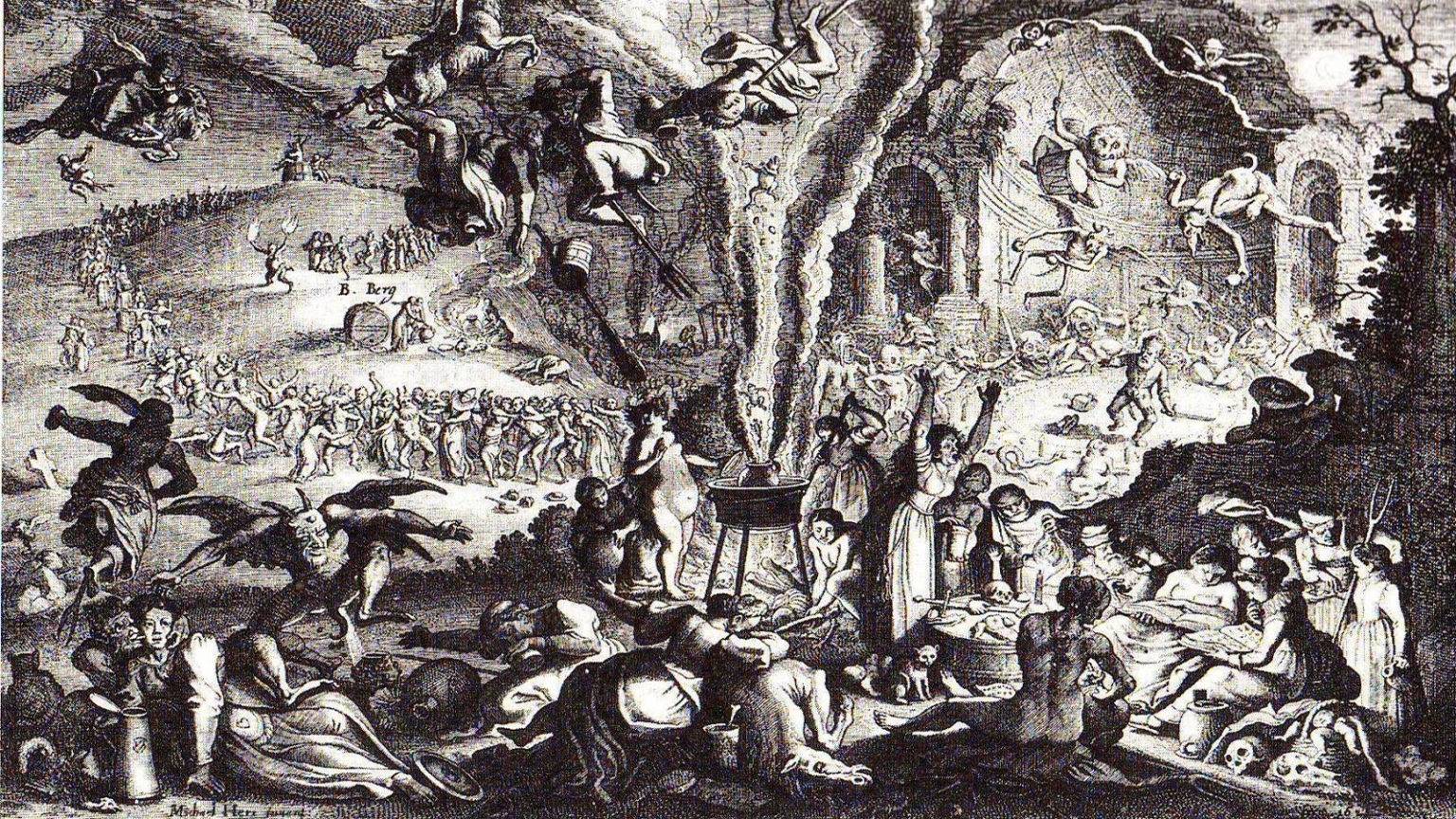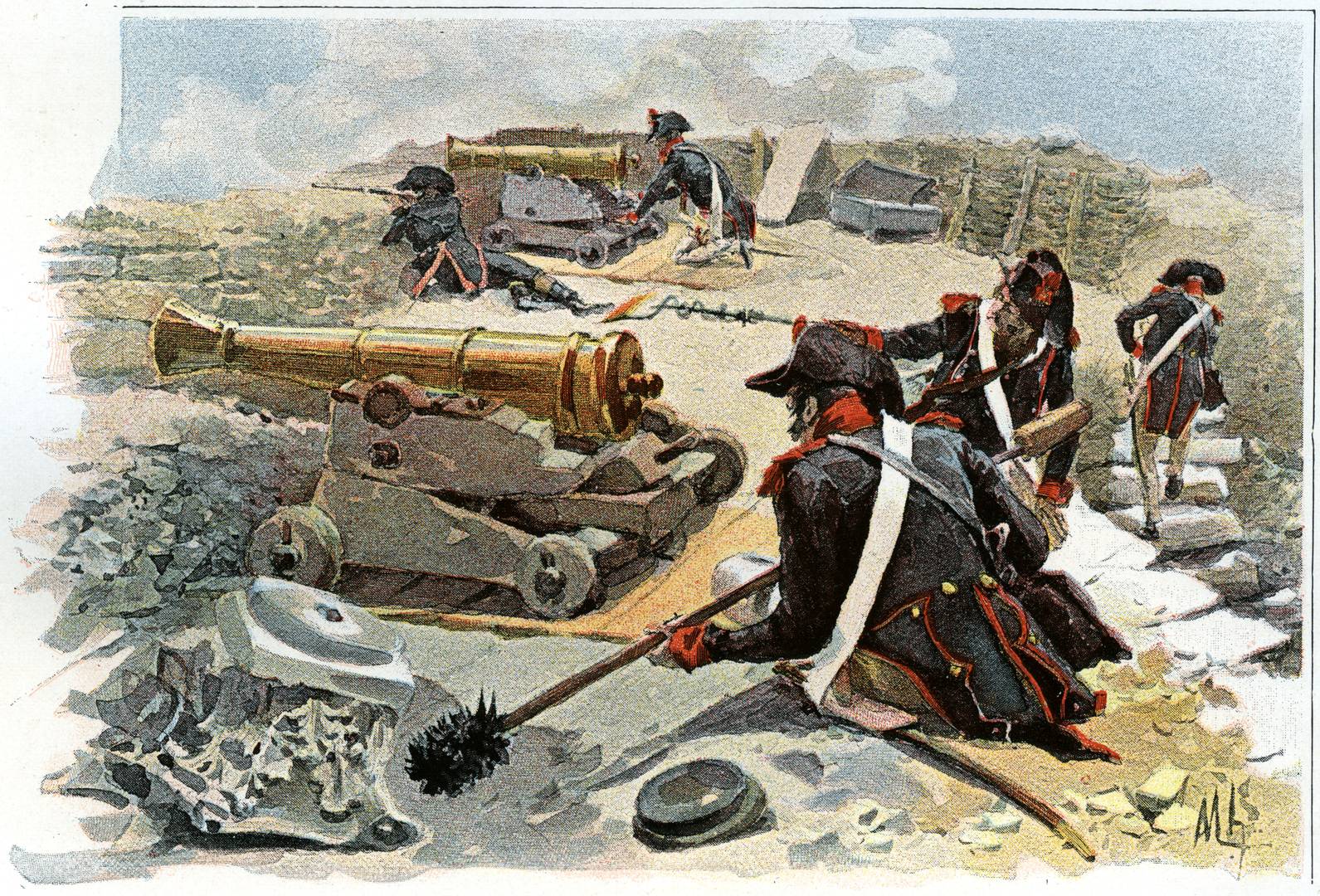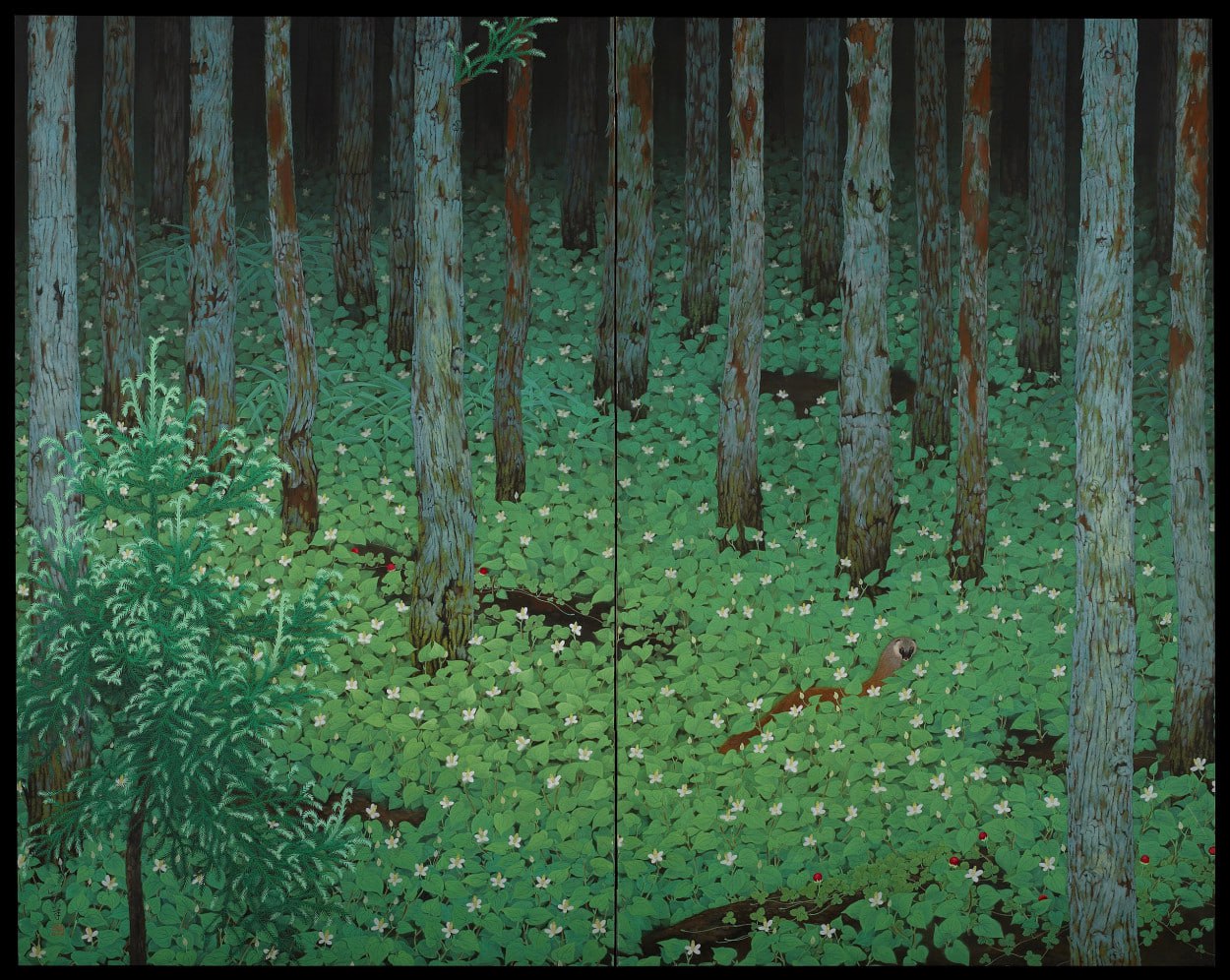О коммунизме и марксизме — 119

Ответ на вопрос о том, кто разбудил Некрасова, вполне очевиден. Его разбудил Белинский. Ну и что же дальше следует делать, разбираясь с мистикой совести и мистикой пробуждения? Задавать себе вопрос о том, кто именно пробудил Белинского? Конечно же, этот путь а) не является самым перспективным и б) настолько истоптан, что дальше некуда.
Этак мы быстро дойдем до Радищева и, например, увидим узкую петляющую тропку, уходящую в дебри религиозных радений и расколов. (Ею очень интересовался Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич — ближайший помощник и фактически секретарь Ленина, — переселявший духоборов с Кавказа в Америку, сопровождавший последнюю партию духоборов в Канаду, изучавший жизнь самых разных сектантов, включая хлыстов, веривший в то, что традиция русского революционного марксизма с его мистикой совести и пробуждения уходит корнями в эти самые религиозные расколы, прекрасно знавший историю расколов, опубликовавший псалмы духоборов, да и не только.)
Итак, либо это концепция русских расколов и сектантства как той среды, которая породила сначала Радищева, а потом всех тех, кто последовал по его стопам вплоть до Ленина и большевиков.
Либо — подробное обсуждение масонских и иных западных влияний на Радищева и его круг (Новиков и компания).
Либо (не в этой работе, но в принципе) — может быть осуществлена попытка увидеть нечто общее в этих разных предшественниках русского коммунизма и марксизма: отечественном религиозном раскольничестве и западном масонстве, что делается достаточно редко.
По большому счету, и такое возможно. Русские крестьяне пешком ходили, например, из Костромы в Индию. А западные искатели духовных тайн интересовались индийскими мистическими учениями. Кто только ими не интересовался. Разве Лев Толстой не интересовался? Интересовался, да еще как! А отсюда — один шаг до знаменитых писем индийских Махатм, протягивавших руку победившей советской власти.
Достаточно поменять разрешающую способность нашей интеллектуальной оптики, и мы разглядим рядом с этими Махатмами не только семейство Рерихов, что очевидно, но и многое неочевидное. Вплоть до Иоанна Кронштадтского, весьма далекого от нащупываемого нами сплетения религиозных расколов и западных духовных исканий, но при этом нечуждого тем же Рерихам.
Такой путь возможен. Но я бы всё же повнимательнее присмотрелся, с одной стороны, к влиянию Белинского на Некрасова, а с другой стороны, к тому, как именно Ленин относился к Некрасову. Начинать всё же надо с Белинского.
Когда в послевоенные годы моя мать собралась писать кандидатскую диссертацию, она была рекомендована Михаилу Лифшицу.
Михаил Александрович Лифшиц (1905–1983) — это один из самых крупных советских исследователей марксизма, учитель подлинно глубоких советских марксистов, таких как Эвальд Васильевич Ильенков (1924–1979).
Лифшиц спросил мою мать, на какую тему она хотела бы писать диссертацию под его руководством.
Мать сказала, что хотела бы исследовать заочную интеллектуальную полемику Белинского и Гегеля.
Лифшиц сказал матери, которая к этому моменту оканчивала институт: «Фуй, вы хотите ставить на одну доску нашего великого Гегеля и вашего недоучившегося студента Белинского!?»
Лифшиц был если не учеником, то последователем одного из крупнейших западных марксистов — Лукача. Дьердь Бернард Лукач (1885–1971) — это одна из ключевых фигур так называемой Будапештской школы марксизма и один из крупнейших марксистских литературоведов. При этом, как ни странно, но именно Лукач стал для Томаса Манна прототипом при создании образа еврейского католического реакционера Нафты, одного из главных героев «Волшебной горы». Почему Манн взял марксиста в качестве прототипа господина Нафты — не только реакционера, но и иезуита, — вопрос очень интересный, но, безусловно, уведший бы нас несколько в сторону.

Наследие Лифшица и Лукача должно изучать крайне внимательно и осторожно по очень многим причинам. Лукач довольно быстро дрейфовал в сторону неомарксизма. А западный неомарксизм с его очевидным пристрастием к Франкфуртской школе довольно быстро оказался под опекой ЦРУ. Не в ЦРУ ли (или в его предшественниках) видел Томас Манн источник переклички между иезуитами и определенными западными неомарксистами? А почему бы, в сущности, и нет? Иезуиты со многими заигрывали.
Кстати, в качестве заметки на полях: Лукач очень высоко ценил Солженицына именно как автора произведений, сокрушивших бастионы сталинизма. Ну и почему бы не быть соответствующей перекличке: Солженицын — Запад — разного рода низвергатели советского коммунизма и СССР — закрытые структуры самого разного типа, иезуитские в том числе?
Впрочем, здесь я не собираюсь развивать эту линию. Потому что либо надо ее отвергать, либо изучать по-настоящему, а не предлагать некие лихие эскизы. Мало ли кто в западном обществе ценил Солженицына? Нельзя же всем шить это лыко в строку по принципу «раз похвалил — агент ЦРУ»? Солженицына и Генрих Бёлль похваливал, а он был человеком безусловно честным и никаких видимых связей с разного рода спецслужбами не имевшим.
Здесь я хочу обсудить не хитросплетение интриг (это когда-нибудь в другой раз), а расклад интеллектуальных сил, качество этих сил, их роль в истории. И потому скажу несколько слов не о связях Лукача и Лифшица, а об их стиле, образе мышления, интеллектуальной состоятельности, наконец.
И Лукач, и Лифшиц особо интересовались не общефилософскими построениями Маркса, а возможностью построения марксистской эстетики. Ну и что же они построили?

Марксистская эстетика Лукача и Лифшица мне представляется очень прямолинейной и в каком-то смысле антихудожественной. Умные философы, ничего не понимая в искусстве, пытаются его доктринальным образом обсуждать. В этом смысле эстетика Белинского бесконечно выше угрюмых, скучных рассуждений Лукача и Лифшица о марксистской теории отражения.
Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) — это гениальный русский философ и критик. Сын уездного лекаря, Белинский с трудом добился возможности получить высшее образование за казенный счет. В возрасте 17 лет Белинский, уйдя из разочаровавшей его гимназии, начал биться в двери Императорского Московского университета.
В 1829 году Белинский добился зачисления на словесный факультет Московского университета, на казенный кошт.
В 1832 году Белинский ушел из университета по состоянию здоровья и написал брату, что здоровье его почти невозвратно потеряно.
Первая статья Белинского называлась «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Эта статья показала, что Белинский не только блистательно умен и образован (что бы там ни думал по этому поводу Лифшиц), но и, главное — что он сочетает этот интеллектуальный блеск со страстной влюбленностью в литературу (притом что и Лифшиц, и Лукач к ней глубоко безразличны), что Белинский и чувствует литературу, и осмысливает ее одновременно. Что фактически уникально.
Белинский — и филолог, и философ, что опять-таки уникально. И, наконец, он гениальный публицист, что совсем уже уникально в сочетании с филологической и философской глубиной.
Белинский вдобавок очень специфический западник. Я бы сказал, западник-русофил. Это, кстати, не так уж и уникально (почему бы не считать западническое русофильство характерной чертой Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, которые бесконечно влюблены в русскую специфичность и одновременно очень далеки от пренебрежения к Западу).
Вот что Белинский пишет в своей первой статье о русской литературе как особом явлении, которое в силу своей уникальности обязательно, по его мнению, превзойдет великую западную литературу, но которой следует сейчас учиться, учиться и учиться: «Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедило ли вас в этой истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неуменье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов, и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время?»
Сейчас это утверждение кажется странным, но вспомним, что в момент, когда Белинский написал эти строки, не было еще ни Толстого, ни Тургенева, ни Некрасова, ни Достоевского, ни тем более Чехова. Белинский действительно пишет в момент, когда он может назвать только четыре великих имени. Но он не скорбит по этому поводу, а смело глядит в будущее.
Задав читателю вопрос: «Когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?», Белинский отвечает: «Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возращенное на родной почве. У нас нет литературы; я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как новое поколение, разочаровавшись в гениальности и бессмертии наших литературных произведений, вместо того чтобы выдавать в свет недозрелые творения, с жадностию предается изучению наук и черпает живую воду просвещения в самом источнике. Век ребячества проходит видимо. И дай бог, чтобы он прошел скорее! Но еще более дай бог, чтобы поскорее все разуверились в нашем литературном богатстве! Благородная нищета лучше мечтательного богатства! Придет время, просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!»
Ленин жадно читал всё то, что было ему в какой-то степени созвучно. Почему бы ему при этом не читать, наряду с прочими близкими ему авторами, и Белинского? Почему бы не запомнить это самое «ученье! ученье! ученье!» и потом случайным образом, забыв, где и что он когда-то читал, не воспроизвести этот тезис о сверхважности учения в своей очень глубокой и в чем-то даже парадоксальной речи на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи?
Кстати, в этой речи нет троекратного призыва, который звучит у Белинского. Троекратный призыв есть в других произведениях Ленина. Например, в его ранней работе «Попятное направление в русской социал-демократии». Работа написана в 1899 году. В ней сказано: «Среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию». В России уже есть эта «рабочая интеллигенция», и мы должны приложить все усилия к тому, чтобы ее ряды постоянно расширялись, чтобы ее высокие умственные запросы вполне удовлетворялись, чтобы из ее рядов выходили руководители русской социал-демократической рабочей партии».
В работе, которую я только что процитировал, совсем еще молодой Ленин (ему 29 лет) ставит фантастически сложную, почти беспрецедентную задачу создания в условиях царизма новой интеллигенции, причем интеллигенции рабочей. Ленин не верит в возможность решения задачи, которой решил посвятить свою жизнь, без создания такой интеллигенции. А ведь есть умельцы, говорящие о том, что Ленин был настроен против интеллигенции, называл интеллигенцию дерьмом и так далее. Прочитайте эти ленинские строки — они сегодня актуальнее, чем когда бы то ни было, — и убедитесь в том, что Ленин был страстно нацелен на создание новой интеллигенции, а вовсе не на то, чтобы реализовывать свой стратегический проект без этой новой интеллигенции.
Я не знаю, читал ли Ленин Белинского настолько внимательно, чтобы это «учиться, учиться, учиться» осознанно заимствовать у Белинского. Но это могло быть и стихийное заимствование (прочитал когда-то, забыл и заимствовал), и проявление конгениальности, то есть то, что Юнг называл синхронностью. Два в чем-то загадочно сходных человека, очень масштабных и страстных, только входящих в жизнь и мечтающих ее изменить, говорят об этом самом «учиться».
Ленин, как мы видим, с этого «учиться» начал свою политическую деятельность и им же кончил. А в промежутке были Лонжюмо, школа на Капри. Потому-то большевики и смогли спасти Россию от краха, что они успели создать новую интеллигенцию и протянули руку части старой интеллигенции. Новая и старая интеллигенция успели понять друг друга.
Но вернемся к Белинскому, решающая роль которого в формировании культурного и социально-политического своеобразия Некрасова, столь любимого Лениным, очевидна.
Тургенев утверждал, что главной чертой характера Белинского было «стремительное домогательство истины». Но ведь оно же было и главной чертой характера Ленина.
Молодой Белинский жадно впитывает идеи Николая Ивановича Надеждина (1804–1856). Надеждин, кстати, был не только философом и этнографом, но и блестящим знатоком раскола церкви. Он был сыном священника, получившим духовное образование прежде, чем было получено светское. Надеждин — блестящий знаток западного романтизма и такой же знаток русского раскола. Он убежденный монархист. И яростный поклонник великого немецкого философа Шеллинга.
Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775–1854) всегда стремился к парадоксальному синтезу философии и теологии. Он — друг Гегеля и Гёте. Его бывший ученик, баварский король Максимилиан II, посвятил Шеллингу сонет, в заключительных строках которого говорится: «Ты смеешь перешагивать овраги, что верующих с думающими всегда разъединяли и для которых мудрецы не находили моста».
Для Шеллинга рациональное понимание действительности недостаточно. Нужно соединять ум и чувства, не только осмысливать явления, но и проникать в них с помощью особой интеллектуальной интуиции. Согласитесь, дружба яростно революционного Белинского и Надеждина, который верил в монархию и молился на Шеллинга, весьма далекого от всякой революционности, хотя и тесно связанного с романтиками, — парадоксальна.

Но кроме Надеждина у Белинского есть и другой учитель — Николай Владимирович Станкевич (1813–1840). Станкевич — русский писатель-публицист, поэт и мыслитель, создавший интеллектуально-политический кружок, известный как «Кружок Станкевича». В кружок Станкевича, кроме Белинского, входили столь разные люди, как будущий революционер-анархист Михаил Бакунин и консервативно настроенный Константин Аксаков. Станкевич тоже интересовался философией Шеллинга. А кружок он собрал для того, чтобы обсуждать «правду, Бога и поэзию». Именно Станкевич назвал Белинского «неистовым Виссарионом». Умер Станкевич очень рано, в возрасте 26 лет, от чахотки.
Станкевич был влюблен в Любовь Бакунину (сестру Михаила Бакунина), которая, как и он, умерла от туберкулеза. Бакунин был главным интеллектуальным авторитетом для кружка Станкевича. Он проявлял особую философскую начитанность вообще и особую осведомленность в том, что касалось философии Гегеля. А эта философия до крайности интересовала кружок Станкевича. Но ровно в той же степени она интересовала Маркса и младогегельянцев. А еще она под конец жизни интересовала Ленина, что отражено в его «Философских письмах», в его рассуждениях о создании общества любителей материалистической гегелевской философии. Что это такое, неясно вообще, но Ленин под конец жизни обращается к Гегелю. Парадоксальная интеллектуальная перекличка налицо. Как мало мы знаем о той интеллектуальной почве, на которой произрастали и русский большевизм, и другие русские философско-политические течения!
Бескорыстный Станкевич, никогда не претендовавший на роль авторитарного лидера (в отличие от Бакунина), очень много значил для тех, кто пытался соединить западную мысль с русской почвой.
Член кружка Станкевича Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855), оказавший сильное влияние на русскую философско-политическую и историческую мысль, утверждал в своем письме к сестрам, написанном в августе 1840 года по-французски, что Станкевич «был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь обязан. Я больше других. Он был мне больше, чем брат. Десять братьев не заменят одного Станкевича... Как вам сказать, что я потерял вместе с ним. Это половина меня, лучшая, самая благородная моя часть, сошедшая в могилу».
На свой манер читая Гегеля, Станкевич ориентировал своих собратьев по кружку на воспитание в себе абсолютного человека. То есть на саморазвитие, осуществляемое при относительном безразличии к действительности.
Надеждин же, на свой манер читая Шеллинга, настаивал на том, что близость к действительности совершенно необходима. Что эта близость может быть обеспечена только за счет проникновения, интеллектуальной интуиции, а не рассудка, сколь бы абсолютен он ни был. И что вне этой близости невозможно ни человеческое развитие, ни выполнение того человеческого предназначения, которое только и может по-настоящему подталкивать к развитию.
Белинский сформировался на стыке двух этих одновременно близких и далеких тенденций. Притом что кружок Станкевича был для Белинского, конечно же, особо важен. А кружок этот был сориентирован на изучение философской системы Гегеля. Лучше всего из членов кружка эту систему знал Бакунин. Именно он поселил в душе Белинского гегелевскую идею о том, что всё действительное разумно.
Белинский был буквально захвачен гегелевской философией. Он жил ею, рассматривал всё происходящее через призму этой философии, восторгался ее новизной и глубиной. И пытался сочетать философию Гегеля с определенными духовными исканиями интеллектуально-романтического характера.
Такими, как идея вечной красоты и вообще идея вечного абсолютного совершенства.
Такими, как культ вечной женственности у Гёте.
Восхваление немецкой глубины и пренебрежение французской поверхностностью — вот что такое этот период жизни Белинского. Положа руку на сердце, не убежден, что Белинский, страстно впитывавший Гегеля, знал его намного хуже, чем Лифшиц. И уж точно, что Белинский способен был, в отличие от Лифшица, жить «страстями по Гегелю». А Лифшиц страстями жить вообще не умел. И не понимал, зачем это нужно. Мог ли Лифшиц сказать о литературе то, что сказал в 1839 году Белинский? А сказал он следующее, причем, от всей души, что всегда ему было свойственно: «Судьба налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам легче было жить... Нет ружья — бери лопату, да счищай с «расейской» публики (грязь). Умру на журнале, и в гроб велю положить под голову книжку «Отечественных записок». Я — литератор; говорю это с болезненным и вместе радостным и горьким убеждением. Литературе расейской — моя жизнь и моя кровь».
А вот еще одна цитата, раскрывающая, на мой взгляд, и природу близости между Белинским и Некрасовым, и природу близости Некрасова и Ленина. Белинский пишет о свободе творчества: «Свобода творчества легко согласуется со служением современности; для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи».
Перекличка с Некрасовым совершенно очевидна. В наиболее знаменитых строках из стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин» говорится именно об этом. Вот эти строки:
Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось поможет время,
И горды тем, что не вредим!»
Хитро скрывает ум надменный
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди, и гибни безупрёчно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
Эти строки абсолютно созвучны тому, что сказано Белинским. И в данном случае речь уж наверняка идет не о конгениальности, а о прямом влиянии Белинского. Любители копаться в биографиях великих людей приведут примеры политической, гражданской и даже бытовой непоследовательности Некрасова. Но они не смогут привести примеры такой же непоследовательности абсолютно бескорыстного Белинского.
Если бы Ленин, особо принципиальный в этих вопросах, считал Некрасова циником и двурушником, он бы не читал его с такой влюбленностью.
Если бы очень чуткая революционная молодежь разочаровалась в Некрасове из-за его непоследовательности и определенных верноподданнических реверансов, которых Некрасов стыдился всю оставшуюся жизнь, то не было бы похорон Некрасова как события огромной гражданской важности, как одной из первых настоящих политических демонстраций в России, как предтечи похорон Баумана. Ну и, наконец, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Нас интересуют стихи Некрасова, мистика Некрасова, а не детали его бытового и политического поведения.
Я беседовал с людьми, которые глубоко вникали в творчество Некрасова и в его человеческую судьбу. Они говорили мне, что Некрасов был непоследователен на уровне быта и даже политики и что он сам признавал и осуждал эту непоследовательность. Но что он был абсолютно последователен в своей мистике совести. И что в стихах, проникнутых этой мистикой, нет ни крупицы неискренности.
Что касается Белинского, то тут человек и мыслитель слиты воедино. Тут налицо не только удивительная глубина и страстность, но и удивительная целостность. Что вовсе не означает отсутствия определенных периодов в жизни этого, увы, быстро покинувшего юдоль земную, невероятно целостного, глубокого и страстного русского мыслителя и публициста. Человека, создавшего атмосферу, внутри которой разворачивались все общественно-политические процессы, пробудившие и народовольцев, и российских социал-демократов, то есть большевиков.
(Продолжение следует.)