Защита Истории


Выступление Сергея Кургиняна 7 ноября 2025 года
Мне кажется, и это особенно важно, когда мы празднуем очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, что самое главное — не топтаться на месте, не повторять какие-то уже заезженные формулы (позитивные, негативные, неважно), а куда-то двигаться вперед в осмыслении происходящего, в масштабе этого осмысления. Я позволю себе это сделать, превратив это в поздравление.
Невозможно бесконечно поздравлять с чем-то, чего нет и что бесконечно проблематично в условиях, когда все время говорится разное. Бессмысленно в этих условиях какое-то тривиальное поздравление — какое угодно, сколь угодно экспрессивное. А то, что я отношусь к Великой Октябрьской социалистической революции как к одному из грандиознейших событий мировой истории, ни у кого не вызывает сомнения. Я много раз об этом говорил и никогда не говорил ничего другого.
Так вот, мне кажется, что просто повторять это как такую слегка заезженную пластинку — нельзя, нужно куда-то двигаться в осмыслении. Нужно вводить какие-то категории, внутри которых это может быть осмыслено достаточно масштабно. И, что самое главное, нужно понять, а как это все с будущим-то связано, что там происходит с будущим. И это все очень существенно.
Если вводить первое и главное понятие — или категорию — внутри того, что произошло с Россией 7 ноября (по новому стилю) 1917 года, и что полыхнуло на весь мир, то главная масштабная категория, гораздо более масштабная, чем те, которые предлагались и советским, весьма упрощенным марксизмом, и другими школами того или иного интеллектуализма… Так вот, главное, повторяю, из того, что может быть введено тут в рассмотрение в качестве чего-то масштабного, называется так: историческое альтернативное человечество.
Хотя есть всемирная история, и она движется, но по-настоящему историческим человечеством является только то человечество, которое на высших уровнях, именуемых метафизическими, экзистенциальными, сущностными, на самых высших уровнях вводит Историю как некую непреложность внутрь своего бытия, как нечто благое и, безусловно, судьбоносное, основополагающее и так далее.
Это всегда делается религиями. Если религии ждут какого-то исторического великого события в будущем — Второго пришествия, рая на земле, прихода мессии или чего-нибудь другого, — если внутри тех или иных народов это ожидание носит накаленный напряженный характер и находится в ядре культуры, в ядре человеческого существования… Не хочу говорить о цивилизации, вопрос слишком сложный, и он уведет нас далеко в сторону. Цивилизация — это такой тип общности, в котором все определяется одной религией и для всех. Когда есть светское человечество, а религий на территории много, то говорить о цивилизациях мне представляется просто некорректным и чем-то таким, что противоречит всему, что сказано об этом создателями этой теории, — Тойнби, Данилевским, их продолжателями.
Короче говоря, вот в этих общностях, народах, мирах миров — в чем-то более сложном, чем цивилизации, — в этих общностях внутри их ядра, в самой сердцевине их существования, находится упование на историю и будущее. Надежда на это будущее, величие этого будущего.
Да, там горит звезда неведомого счастья
И даль грядущего светла и широка…
Что значит перед ней весь этот мрак ненастья…
Вот это ощущение горящей звезды пленительного счастья:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья…
Вот это ожидание чего-то совершенно другого — какого-то великого блага, счастья и чего-то еще — оно есть не во всех ядрах культур или общностей. Не во всех. Это вовсе не означает, что какие-то другие общности являются плохими или второстепенными. Не надо относиться к фразе «историческая часть человечества» как к чему-то высокомерному. Есть исторические народы, а есть неисторические. Кстати, была большая мода, в том числе в определенной части марксистской среды, считать, что Россия — это неисторическое человечество, что глубоко неверно.
Так вот, это историческое человечество не едино. В нем есть две части. Одна из них — наиболее очевидная и явленная, это, конечно, Запад. А другая — альтернативная. Альтернативное историческое человечество есть.
Там, где то, на что опираются народы, — их верования — являются циклическими, истории не существует. Стрела истории устремлена в будущее. И там, где линейно-историческое время или более сложное историческое время, устремленное так или иначе в будущее, там, где это так, и это является основополагающим, там есть исторические народы. А там, где говорится: «Сейчас цикл, при котором идет подъем, а потом будет цикл, при котором будет спад… А вот сейчас там такой-то бог выдохнул, и возникло все… А когда он вдохнет, все исчезнет…» — там историчности как накаленного, определяющего твое существование высшего инстинкта и верования, нет. Его нет.
В Китае нет религиозного исторического накала. Есть ось Чжунго. Ось проходит через Китай. Когда от нее отклоняются, нравы ухудшаются и все начинает рушиться. Когда назад ось восстанавливается, нравы улучшаются, и все начинает улучшаться… Я прошу прощения перед китаистами за то, что так сильно упрощаю, но я ведь не хочу превратить это в цикл лекций.
Значит, есть основное и очевидное историческое человечество, есть альтернативное, опять-таки историческое, а есть неисторическое. Это неисторическое может бурно развиваться. Оно может быть лучше нас. Оно может быть невероятно умным, обаятельным, тонким… Я не говорю об этом. Я говорю о том, что такое История. История не есть что-то, что для всех одинаково равнозначно. История накалена и определяюще судьбоносна для исторического человечества, которое делится на основное (или очевидное) — и альтернативное.
Дело это давнее. Мы не настолько хорошо понимаем прошлое, чтобы совсем твердо на чем-то настаивать. Мы только знаем, что основная мистерия между явным и альтернативным разыгрывалась внутри, прежде всего, греко-римской античности. И когда говорится: «Кто такой Юпитер? Это Зевс», — что это нечто единое, то это лукавое единство. Ибо всегда суперконфликт возникает между чем-то близким. Греческая античность и римская античность близки, но они невероятно конфликтны по отношению друг к другу.
Этот конфликт определяется, в сущности, Троянской войной. Когда римляне уничтожали греческие города, уже победив греков, они писали на руинах: «Месть за Трою». Ибо они себя рассматривали как нечто альтернативное ахейцам, которые разрушили Трою. Себя они определяли как потомков троянцев. О чем и говорит «Энеида» Вергилия, и что является определяющим. Римляне говорили: «Мы троянцы, а греки — ахейцы. И поэтому мы одновременно и близки, и невероятно конфликтны».
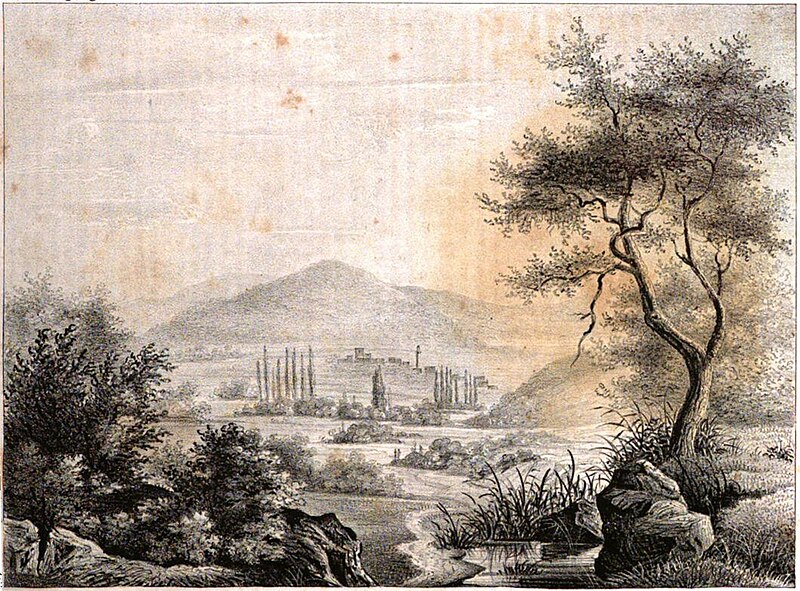
Так вот, этот троянский Рим, который на предыдущем этапе истории очевидным образом определяется крито-минойской культурой, а перед этим, уже смутно, определяется дельтой Нила, культом Сета и прочим (это уже смутные все вещи) — это нечто одно.
А то, что относится не к крито-миною, а к другим древностям, то, что не с Сетом связано, а с чем-то другим, — это и есть в конечном итоге сущность античной Греции. Через запятую говорится, что Александр Македонский построил империю, которая потом превратилась в эллинизм, а Рим построил свою империю… Это абсолютно разные империи! Абсолютно. Эллинизм и римская имперскость — это абсолютно разные вещи.
Рим становился пятою всюду, куда он достигал. Он всюду приносил свои правила, свои гарнизоны, в конечном итоге свои дороги, свою юриспруденцию, бог знает что еще. Он очень глубоко зарывался в завоеванные земли. Эллинизм был другим. Рим очень централизованно управлял всем, эллинизм — нет. Это очень разные вещи.

А на следующем этапе, конечно же, вопрос заключался в том, что уже христианизированный Рим очень быстро поделился на ватиканский римский Рим — и на Византию, которая объявила себя наследником не античного дохристианского Рима, а античной Греции. Греции! И сказала: «Мы одно, а римский Рим — другое».
Этот римский, уже христианский мир, управляемый, конечно, Ватиканом, — сильно навернулся в так называемые Темные века, он потом долго выкарабкивался, но он и стал этим основным историческим человечеством. Ибо в основе его лежало христианство, его католический вариант — и бесконечная ненависть к ближайшему конкуренту — Византии.
И когда Византия была сокрушена турками, это был невероятный восторг: «Ну надо же, как хорошо!» А перед этим крестоносцы, будучи христианами, грабили христианскую Византию на определенном этапе очередного завоевания Гроба Господня.

Это не частные истории. Византия, эллинизм, античная Греция — это альтернативное историческое человечество. А крито-миной, перед этим что-то египетское, после этого Троя и Рим — это основная часть исторического же человечества. И между этими двумя частями исторического человечества всегда существовала загадочная непримиримая борьба, гораздо большая, чем между неисторическим человечеством (той же Азией) — и Западом как таковым, который манифестировал себя как основное историческое человечество.
Почему Россия и Запад — это одновременно очень конфликтные и близкие миры? Потому что и там, и там христианство. Но одно — Россия, наследница Византии, православная, и другое — католическое — очень разные. И в конечном итоге по-разному определяют мироощущение, мировоззрение, упование и все остальное.
Основное историческое человечество, оно же Запад, связав себя с капитализмом на определенном этапе и достигнув очень больших высот, уже в Первую мировую войну превратилось в нечто, перестающее верить в светлую историческую перспективу, нечто мрачное и в конечном итоге — фашистское, ибо основа фашизма (и это тоже надо понимать) — это накаленный антиисторизм, это ненависть к истории как к вот этому упованию, к «звезде пленительного счастья».
Запад во время Первой мировой войны и после нее окончательно разочаровался в себе и в истории. Основное историческое человечество стало загибаться! И тогда полыхнул с востока огонь альтернативной русской историчности (всех нас они называют русскими, и все мы, конечно же, ими являемся). Он полыхнул в 1917 году. Так или иначе там все это разворачивалось, антисоветские байки или советские клише определяют, как именно он полыхнул, — не имеет никакого значения сегодня! Важно, что он полыхнул! И в этом опять-таки было нечто огромное, сущностное и определяющее. Ибо именно большевики заявили, что они верят в Историю и верят в нее религиозно.
Существование человечества можно поделить на несколько фаз.
Первая из них — это вера в бога (того или иного, так или иначе), общая вера всего народа. Когда видишь полупустые готические соборы, и по ним шляются туристы и какие-то маленькие группы религиозных людей, то думаешь: а когда все это было битком набито, накалено и молилось яростно, ожидая Второго пришествия, насколько это было другим все. Насколько все это было насыщено определенной верой в Бога, внутри которого была история.
Потом, недолго, Бог был заменен разумом. Во время Великой французской революции говорили, что вот мы сейчас создадим Богиню Разума и все прочее. Потом в этом разуме разочаровались, и стало понятно, что разум не всё охватывает, к истине не ведет и сам по себе достаточно свиреп.
И тогда, в третьей фазе всего этого действа, сказали: «Мы верим в Историю». Кант верил в разум, а Гегель — в историю. И Маркс, конечно, в историю верил как никто, ибо Гегель считал все равно, что она кончится, а Маркс считал, что это путь «из царства необходимости в царство свободы».

Вот эта накаленная большевистская вера в Историю, полыхнувшая в России и полностью определявшаяся ее православием, наследием Византии, гораздо более ранними вещами, которые ощущаются, но которые никто прямо не описывает… Ну послушайте песнопения церковные русские, потом сдвиньтесь в Грецию — они будут гораздо жестче. Потом сдвиньтесь куда-нибудь в Сирию — и потом к каким-нибудь коптам. И вы все время будете слышать больше и больше исступленности и отсутствия преклонения перед красотой. Умозрение в красках, симфония — это всё русские вещи, тесно связанные с пантеизмом и, конечно, с русской природой, с этими березовыми рощами, реками, ландшафтами и всем прочим. Пустыня этому принятию восхищенности жизнью и красотой очень сильно противостоит. Она может быть очень красивой, но беспощадно мертвой. И там песнопения другие.
Вот эти огромные — до этапа, когда о византийском наследии начали говорить, — этапы русские не исследованы по-настоящему и подменяются очень часто, как я считаю, глубоко ошибочной норманнской теорией, очень сильно искажающей ранний этап русской истории… Вот это византийское наследие, очевидное и православное, сформировало некоторую общность, которая еще готова была религиозно поверить в Историю.
И давайте подумаем: единство основного Запада и России как альтернативного Запада в том, что это христианское всё. А различие в том, что там католицизм, протестантизм, а здесь православие. Единство — это некая греко-римская античность. А различие в том, что греческая античность и римская совершенно разные. И это все время идет через весь процесс, который мы называем движением человечества куда-то, как-то пытающегося в этом движении что-то обрести.
Русская революция 1917 года — это была революция защиты Истории от ее оскудения. Это было восстание альтернативного исторического человечества против оскудения основного исторического человечества, то есть Запада. Оскудение было огромное (почитайте Шпенглера). И это восстание носит фундаментальный характер.

Революция очень сильно отличается от бунта. Революция может осуществляться только в рамках исторического движения при наличии того, что именуется «могильщиком». Могильщик — это класс, формируемый именно в историческом потоке как нечто передовое, осваивающее возможности, которые господствующий класс отказывается отстаивать.
Феодализм отказывался отстаивать новые технические возможности, а буржуазия решила их отстаивать. Она как могильщик была допущена феодализмом, который под конец начал собирать Генеральные штаты, чтобы деньги на войну давали, что и породило французскую буржуазную революцию.
Но еще до этого вместо роскошных камзолов были коричневые сюртуки, вместо дворцов — мрачные здания с небольшими окнами (посмотрите на Флоренцию), в которых окопалась эта богатая буржуазия. Вместо католицизма — протестантизм, вместо каких-нибудь мягких с большими адресациями к античности философских рассуждений — энергичное просветительство. Уже всё было сформировано. Вместо феодальных латифундий — мануфактуры, а потом уже и заводы.
И только потом, сконцентрировав все это, буржуазная революция состоялась, ибо руководил ею этот могильщик в виде буржуазии — могильщик феодального устройства. Целый век потом этот могильщик бодался с тем, что он пытался захоронить, и всё же восторжествовал.
Когда говорили (и Маркс говорил, и другие), что пролетариат — это такой же могильщик, то это тезис сомнительный, хотя и возможный. Потому что, с одной стороны, новой культуры пролетариат не создал, «Пролеткульт» — гораздо более позднее изобретение. С другой стороны, все-таки, действительно, из деревень согнали людей на большие заводы, научили организованности, научили пользоваться машинами, дали образование и так далее и тому подобное. Поэтому с пролетариатом это утверждение как-то тоже проходит, хотя не с такой ясностью, как с переменой формации с феодальной на буржуазную. С буржуазной на социалистическую все иначе, но тоже можно с натягом об этом говорить.
Но когда запускается регресс, то есть деградация достигнутого развития в его материальных и иных компонентах — классов уже нет, классы формируются в истории, могильщик формируется в истории. Как только начинается регресс, это все исчезает.
Назовите мне хоть один пример в мировой истории, когда расправлялись со своими самыми высокотехнологическими производительными силами. Когда?!
Мы знаем, как пришел Лазарь Карно, гений военно-промышленного комплекса, развивать военно-промышленный комплекс феодальной Франции. Так он его развил сумасшедшим образом. И Наполеон в том числе и за счет этого побеждал. Это всегда так. Смена общественной формации не порождает сама по себе уничтожение высокотехнологических производительных сил.
Посмотрите, что произошло с СССР. Что мы сейчас пожинаем? Ведь именно это. Не только распад территорий… Когда пришла буржуазия французская — она позволила отделиться Вандее или Провансу? Она гильотину послала туда с тем, чтобы усмирить любых сепаратистов. Что наблюдали мы?
Поэтому то, с чем сейчас мы сталкиваемся, — это регрессивный тип существования. Как я говорил в начале СВО, историческая заслуга Путина в том, что он лавинообразный регресс при Ельцине превратил в пологий. Но мы же видим, что регресс продолжается. И что его устремленность в сторону небытия определяет где-нибудь 2030–2035 год.
Почему же Россия тем не менее в 2022 году дернулась? А потому что основной исторический Запад расплевался с Историей фундаментально. Он забил болт на все свои собственные основания гораздо круче, чем описал Шпенглер в «Закате Европы». Какой закат?! «Конец истории», — сказал Фукуяма. Мессия не пришел, а истории конец. Кирдык ей! А вместе с ней всему: упованиям, какому-то свету невечернему, каким-то абсолютно иным светлым перспективам будущего бытия: «из царства необходимости в царство свободы» («В царство свободы дорогу грудью проложим себе»)— всему этому кирдык.
И как только это было заявлено, было сразу сказано дальше: Проекту Человек тоже кирдык. Постмодернисты… Проекту Гуманизм — безусловный кирдык, ибо нет гуманизма без истории. Проекту Любви — тоже кирдык. Проекту Надежды — тоже кирдык.
Я всегда предлагал короткий экскурс того, как у нашего барда Булата Окуджавы, крайне небезусловного, двигалась одна тема — надежды.
Сначала:
Надежда, я вернусь тогда,
Когда трубач отбой сыграет,
Когда трубу к губам приблизит…
И так далее. Потом:
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви.
Ну ма-а-ленький оркестрик, да?
Потом:
Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча.
А в конце —
У порога, как тревога, ждет вас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Надежда Чернова — это была руководительница отдела похоронных услуг в Союзе писателей. И из песни именно это следует.
Надежды нет, понимаете? Нет истории, нет надежды, нет веры, нет любви. Запад забил на это. Трамп дергается, но основной постмодернистский Запад на это забил. И тогда русские сказали: «Шалишь, брат, шалишь, в нас еще что-то есть». Как говорил Тарас Бульба, «есть еще порох в пороховницах».
Тогда началось нечто весьма проблематичное, но имеющее свой сокровенный смысл. И тогда опять начали вспоминать Советский Союз. Почему Советский Союз мог победить нацистов? Потому что нацисты были яростно антиисторичны. Внутри самого Запада история оказалась уже полудохлой — кроме коммунистов, которые дали какой-то отпор. А в Советском Союзе история оказалась супернакалённой. И это столкновение темного антиисторического накала со светлым историческим, оно и дало победить в Великой Отечественной войне. Россия до сих пор является наследницей того исторического подъема, который возник, когда альтернативное историческое человечество заявило о своих правах на историю в 1917 году. И сейчас снова встает вопрос о праве на историю.
Вот каков настоящий масштаб, с моей точки зрения, того, что происходит. Вот на каком трагическом, судьбоносном и суперфундаментальном рубеже оказались мы сегодня. Вот насколько неоднозначно все происходящее: с одной стороны, оно регрессивно, антиисторично, а с другой стороны — все время полыхает оставшийся накал истории и жизни. Потому что одно без другого не существует. Без другого будет «товарищ Надежда по фамилии Чернова».
И как ни сильно это клубится в России, но есть что-то, что против этого восстает. И это что-то мы видим там, где идет война. И принцип этой войны есть опять какая-то историчность против очевидной антиисторичности. В бандеровском варианте — даже серьезно накалённой и поддерживаемой общей антиисторичностью Запада.
Сказав все это, я поздравляю всех с великим событием, с огнем историчности, полыхнувшим именно в России на фоне западного отчаяния 7 ноября 1917 года. С праздником, этим праздником, товарищи!
















