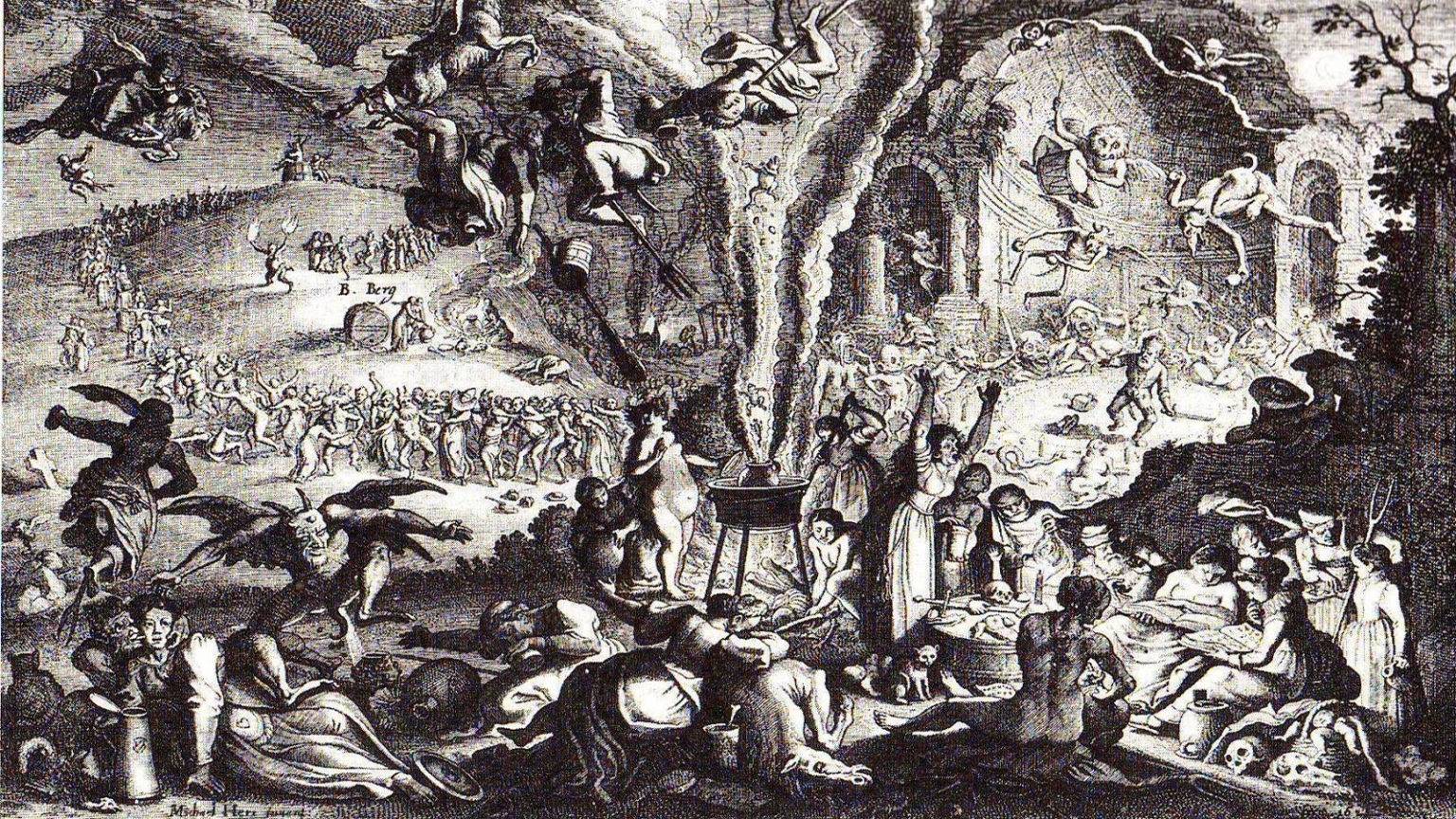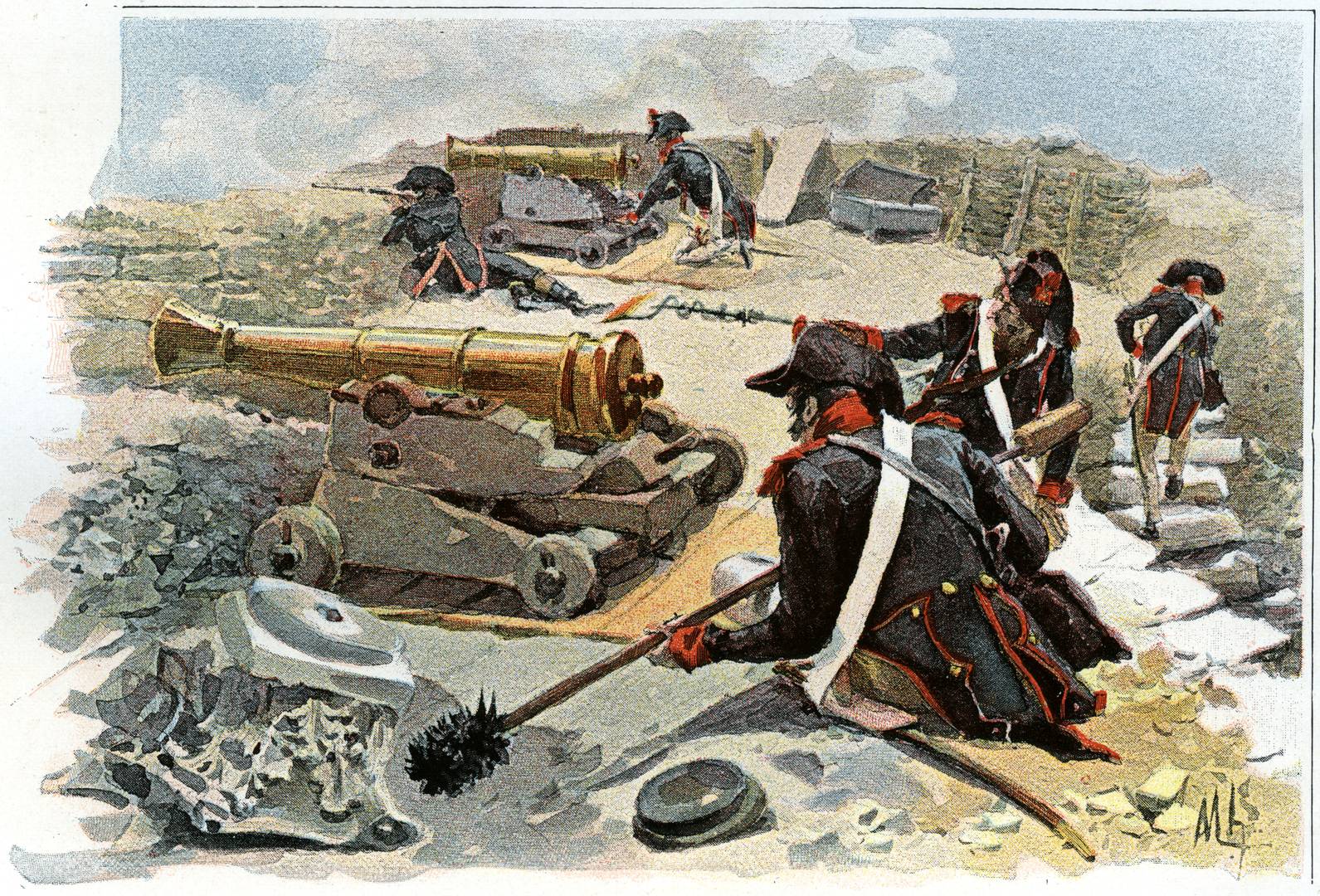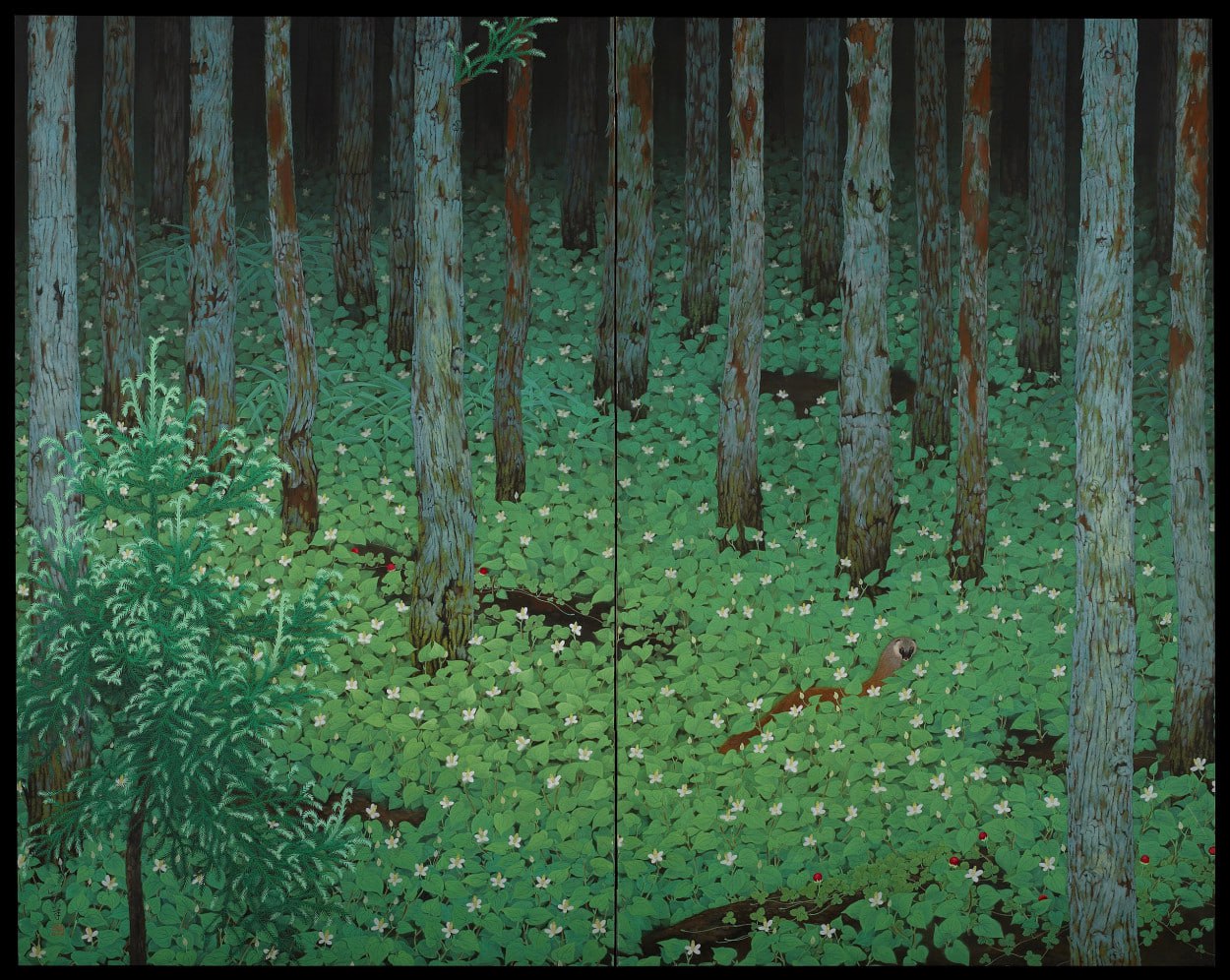О коммунизме и марксизме — 117

В тех религиях, которые рассматривают духовную смерть как страшную угрозу, которые именуют ее «погибелью», считается, что причиной этой погибели является полное отпадение от бога.
В результате такого отпадения душа лишается божьей благодати, которая одна лишь может поддерживать высшую духовную жизнь. Душа лишается духовного света, блаженства и радости, ввергается во мрак.
Поскольку я рассматриваю марксистскую, коммунистическую версию духовной смерти, то обсуждение неявных обращений к этому типу погибели в религиях, далеких от христианства, не столь уж и актуально. И потому, что при таком обсуждении понадобится развернутая детализация, достаточно глубокое проникновение в неочевидный религиозный контекст, и потому, что главным объектом внимания по определению должно быть рассмотрение того, что именно считают духовной смертью люди нерелигиозные, в том числе и такие, как Маркс и его последователи.
Для начала необходимо было убедиться в том, что для нерелигиозных людей духовная смерть вообще является чем-то понятным и существенным. И здесь было мало ссылок на Фромма как большого специалиста по марксизму. Нужно было еще и сослаться на самого Маркса, что и было сделано. Как мы убедились, Маркс считал духовную смерть реальной и реально опасной. И рассматривал в качестве ее источника отчуждение вообще и главное — отчуждение от человеческой родовой сущности. Убедившись в этом, мы имеем право утверждать, что есть сходство между пониманием духовной смерти у марксиста и коммуниста и пониманием духовной смерти в религиях, ориентирующихся или только на Ветхий Завет (иудаизм, ислам), или и на Ветхий, и на Новый Завет (христианство). Для тех, кто религиозен в указанном выше смысле, духовная смерть есть отпадение от бога. А для марксистов и коммунистов, отвергающих подобную религиозность, духовная смерть — это отчуждение от родовой сущности.
То, отпадение от чего является источником духовной смерти для религиозного человека, именуется Богом.
То, отпадение (или отчуждение, что то же самое) от чего является источником духовной смерти для коммуниста и марксиста, именуется родовой сущностью.
Теперь мы можем поставить на повестку дня весьма актуальный, как мне представляется, вопрос: что важнее на данном этапе развития человечества — согласие в вопросе о том, что духовная смерть — это страшная угроза, или расхождение в вопросе о том, каков источник духовной смерти?
Мне представляется несомненным, что признание опасности духовной смерти является намного более важным в плане борьбы за спасение человечества, нежели определение того, отпадение от чего порождает эту самую духовную смерть. Я прекрасно понимаю, что для религиозного человека невероятно значимо определение, согласно которому духовная смерть — это отпадение от Бога. И что он ни за что не согласится поставить знак равенства между Богом и родовой сущностью.
Но я же и не прошу религиозного человека приравнять Бога к родовой сущности (притом что в ряде религиозных христианских течений, например в латиноамериканской теологии освобождения, это фактически делается)! Я предлагаю религиозному человеку совсем другое, этим другим является понимание нерелигиозной проблематики. Понимание, а не принятие.
Я присутствовал при разговоре представителя старшего поколения с маленьким ребенком. Представитель старшего поколения убеждал ребенка в том, что собаки — это замечательные существа. Ребенок перед этим был напуган собакой. Но он не хотел обидеть представителя старшего поколения и, проявив мудрость, которая иногда свойственна детям, сказал: «Давай, ты будешь любить собаков, а я — кошков».
Я считаю, что у этого ребенка можно поучиться мудрости. И что нерелигиозный человек — я, например, должен сказать человеку религиозному: «Давай, ты будешь считать, что духовная смерть — это отпадение от бога, а марксист будет считать, что это отпадение от родовой сущности, а юнгианец будет считать, что духовная смерть — это отпадение от своего коллективного бессознательного, а представитель экзистенциализма — что это отпадение от своей экзистенции. Но давай признаем, что все мы, говоря о разных отпадениях, говорим: а) что именно отпадение приводит к духовной смерти, б) что духовная смерть реальна и в) что она является главной угрозой существованию человечества. Давай согласимся в этом и на этой основе найдем взаимопонимание, не задевая ценностей всех тех, кто по-разному определяет источник духовной смерти, но кто одинаково враждебен к этой смерти и кто одинаково серьезно относится к ней как к угрозе существования человечества. В конце концов, у нас есть общий противник, который отрицает саму правомочность разговора о духовной смерти или, что еще хуже, подталкивает человечество в направлении, движение по которому обязательно породит духовную смерть. Так давай прислушаемся к самым разным голосам, на разных, порою отрицающих друг друга языках говорящих об одном и том же — об угрозе духовной смерти. И прислушавшись, давай добьемся взаимопонимания».
Мы уже обсуждали пушкинского «Евгения Онегина», рассматривая вопрос о том, чем набор заимствованных слов и мировоззренческих клише (он же — «меню» из моей поясняющей метафоры) отличается от настоящего целостного мировоззрения (оно же — «тебю»).
Вот еще один пример на ту же тему из той же гениальной пушкинской поэмы:
И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги,
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.
Духовная пустота, духовное умирание, смерть вживе... всё это ставится на повестку дня уже Пушкиным. Причем с достаточной беспощадностью. Но позже это еще более беспощадно будет обсуждаться Достоевским, например в «Записках из подполья».
Достоевский покажет, как именно заполняется неким подпольным субстратом эта самая душевная пустота, которой томились еще задолго до пришествия подполья.
Ницше покажет то же самое. И, наконец, фашизм продемонстрирует, с какой силой вторгается в эту самую пустоту мрак, воля к смерти, темная зловещая архаика, основанная на поклонении мраку.
Достоевский видел причину духовной смерти в богооставленности, Ницше — в христианской сентиментальности и сократическом рационализме, убивавших, по его мнению, здоровую жизненность, которую можно обрести, только отвергнув декадентство вообще и христианство как одну из его разновидностей.
Толстой говорил об отпадении от природной простоты как причине, порождающей духовную смерть, душевную пустоту и так далее.

Что же касается Маркса, то для него духовная смерть, душевная пустота и прочее являются следствиями отчуждения от родовой сущности.
Мы уже неоднократно обращались к «Экономическо-философским рукописям 1844 года». Но что такое эти рукописи? Ради чего они написаны? Что и кто вдохновляли Маркса на их написание?
Маркса, безусловно, вдохновляла необходимость преодоления собственного гегельянства. Помощь в этом преодолении Маркс, как известно, искал у многих. И прежде всего у Людвига Фейербаха, который в своей работе «Сущность христианства» пытался доказать, что и христианский бог, и абсолютная идея Гегеля суть не что иное, как (внимание!) родовая сущность человека.
Вот что пишет Фейербах об этой самой родовой сущности в своем главном сочинении «Сущность христианства»:
«Сознание в самом строгом смысле имеется лишь там, где субъект способен понять свой род, свою сущность. Животное сознает себя как индивид, почему оно и обладает самоощущением, — а не как род, так как ему недостает сознания, происходящего от слова «знание». Сознание нераздельно со способностью к науке. Наука — это сознание рода. В жизни мы имеем дело с индивидами, в науке — с родом. Только то существо, предметом познания которого является его род, его сущность, может познавать сущность и природу других предметов и существ.
Поэтому животное живет единой, простой, а человек двоякой жизнью. Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно связана с его родом, с его сущностью, человек мыслит, то есть беседует, говорит с самим собой. Животное не может отправлять функций рода без другого индивида, а человек отправляет функции мышления и слова — ибо мышление и слово суть настоящие функции рода, без помощи другого. Человек одновременно и «Я» и «ты»; он может стать на место другого именно потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность».
Попытка внеконтекстуального прочтения «Экономическо-философских рукописей» Маркса, как мы видим, не слишком правомочна. Маркс всегда или почти всегда развертывает свою мысль в том или ином контексте, то есть на что-то опираясь и с чем-то (а также с кем-то) полемизируя. В своих размышлениях о родовой сущности Маркс явно опирается на Фейербаха, для которого всё, связанное с родовой сущностью, имеет фундаментальное значение, потому что именно на этой самой родовой сущности Фейербах строит всю свою антропологию.
Работа Фейербаха «Сущность христианства» была издана первый раз в 1841 году и сразу же получила скандальную известность. Работу несколько раз переиздавали, и каждый раз Фейербах писал к ней новое предисловие, пытаясь преодолеть скандальность в обсуждениях этого его сочинения. Но Фейербаху так и не удалось оправдаться. Это сильно испортило жизнь философа (его отлучили от академической науки). Но это же породило особое внимание к Фейербаху со стороны радикальной философской молодежи.
Маркс был самым выдающимся представителем такой молодежи. Он слушал лекции Фейербаха до того, как этого возмутителя спокойствия отлучили от преподавания. Изначально будучи революционно настроенным, Маркс не мог не сочувствовать злоключениям Фейербаха. И чем больше Фейербаха третировали так называемые ортодоксальные научные круги, тем больше Фейербах привлекал внимание молодого Маркса, которому надо было на кого-то опереться в своем, ставшем для него уже насущным отмежевании от Гегеля.
Повторяю, Фейербах был крайне моден в радикальной философской среде, и Маркс просто не мог избежать тех или иных — почтительных или конфронтационных, скрытых или явных — выяснений отношений с Фейербахом.
Энгельс намного позже, в 1886 году, уже после смерти Маркса, реагируя на книгу датского философа Старке «Людвиг Фейербах», пишет свое произведение «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». В этом произведении Энгельс явным образом полемизирует с Фейербахом. А Маркс за 42 года до этого не полемизирует с Фейербахом, а использует его базовый понятийный аппарат для того, чтобы начать создавать свой собственный аппарат, в предельной степени оторвавшись от Гегеля.
Вот почему я настаиваю на том, что чтение «Экономическо-философских рукописей 1844 года» Маркса вне того контекста, который задается «Сущностью христианства» Фейербаха, как минимум недостаточно продуктивно. Вот еще одно рассуждение о родовой сущности из той же книги «Сущность христианства»:
«Всякое ограничение разума и вообще человеческой сущности вытекает из обмана, из заблуждения. Разумеется, человеческий индивид может и даже должен считать себя существом ограниченным — этим он отличается от животного; но он может сознавать свою конечность, свою ограниченность только в том случае, если его объектом является совершенство, бесконечность рода, независимо от того, будет ли то объект чувства, совести или мыслящего сознания. Если, однако, человек приписывает свою ограниченность целому роду, то он заблуждается, отождествляя себя с родом, — это заблуждение тесно связано с любовью к покою, леностью, тщеславием и эгоизмом. Ограниченность, которую я приписываю исключительно себе, унижает, смущает и беспокоит меня. Чтобы освободиться от чувства стыда и беспокойства, я приписываю свою личную ограниченность человеческому существу вообще. Что непонятно для меня, непонятно и для других, чего же мне смущаться? это не моя вина, это зависит не от моего рассудка, а свойственно рассудку рода, но это — смешное и преступное заблуждение. Hа существо человеческой природы, на сущность рода, то есть на абсолютную сущность индивида, нельзя смотреть как на нечто конечное, ограниченное».
Таким образом, для Фейербаха есть, во-первых, естественная ограниченность индивида («...разумеется, человеческий индивид может и даже должен считать себя существом ограниченным...») и то, что этой ограниченности противостоит, причем речь идет об очень и очень радикальном противостоянии этой самой прискорбной ограниченности индивида. Противостоит же этой ограниченности, как мы видим, «совершенство, бесконечность рода».
Фейербах настаивает на том, что индивид, приписывая свою конечность роду, вопиющим образом ошибается. И что источником этой вопиющей ошибки являются «любовь к покою, леность, тщеславие и эгоизм».
Фейербах подробно разбирает эту прискорбную человеческую ошибку и тот лежащий в ее основе принцип, который у Достоевского будет назван «всемством». Суть этого принципа в том, чтобы сваливать свои индивидуальные недостатки на весь род человеческий.
Правда, у Достоевского в «Записках из подполья» герой записок говорит: «Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством». Но на самом деле, конечно же, «подпольщик» этим «всемством» оправдывается, да еще как. Он делает именно то, что осуждает Фейербах: оправдывает свои недостатки свойствами рода, из которых с неизбежностью вытекают эти недостатки.
Установив это, установим также и то, что для Фейербаха каждое человеческое существо, будучи сопричастным сущности рода, является бесконечным и именно потому заключает в себе своего собственного бога как свою высшую сущность. И признаем, что если родовая сущность, будучи бесконечной, в каком-то смысле является и высшей сущностью, и собственным богом обладающего этой сущностью человека, то — по крайней мере для Фейербаха! — есть что-то общее между этой высшей сущностью человека, она же — его родовая сущность, и тем, что автор «Сущности христианства» именует собственным богом человека.
Это вовсе не значит, что Фейербах приравнивает родовую сущность к богу.
Напротив, он говорит о том, что человек ошибочно принимает эту родовую сущность за бога. Но параллели между родовой сущностью и богом — налицо.

Религиозный человек скажет, что Фейербах ошибается, именуя Господа какой-то там родовой сущностью. А почитатель Фейербаха скажет, что религиозный человек ошибается, именуя родовую сущность богом.
Что же касается нас, то мы всего лишь зафиксируем близость двух этих понятий у Фейербаха, а значит, в каком-то смысле, и у Маркса. И при этом не станем оспаривать определенную — меньшую у Фейербаха и большую у Маркса — антирелигиозность построений, в основе которых лежит представление о родовой сущности. Но это та антирелигиозность, которую Эрих Фромм назвал скрытой религиозностью.
И Фейербах, и Маркс следом за Фейербахом, по сути, заменяют бога этой самой родовой сущностью, приписывая (внимание!) этой сущности все свойства бога, они же — свойства высшего Я.
Осуществив такое приписывание, Фейербах и Маркс говорят: религиозные люди ошибаются, приписывая богу те свойства, которые на самом деле являются свойствами родовой сущности. И Гегель ошибается, приписывая своей абсолютной идее те свойства, которые на самом деле являются свойствами родовой сущности.
Но мы-то, читатель, можем сделать из этих утверждений только один вывод. А именно, что спор идет о том, кто именно обладает определенными свойствами: христианский бог, абсолютная идея Гегеля или фейербаховско-марксистская родовая сущность. И что вопрос о том, кто именно обладает этими свойствами, для нас вторичен по отношению к тому, что некто или нечто этими свойствами обладает. Конечно, невероятно важно, кто ими обладает: богоподобна ли родовая сущность или бог выступает под маской родовой сущности. Но при всей важности этого вопроса, являющегося водоразделом между классической религиозностью, гегельянством и марксизмом в неотрывном от Фейербаха варианте, он же — марксизм «Экономическо-философских рукописей 1844 года», намного важнее для нас наличие инстанции, обладающей и свойствами бога, и свойствами абсолютного духа. Религиозным людям и гегельянцам не хочется, чтобы эту инстанцию называли родовой сущностью.
А я, понимая, почему им не хочется, чтобы эту инстанцию так называли, готов рассматривать ее в качестве родовой сущности.
Для меня неизмеримо важнее то, что эта инстанция, во-первых, есть.
И, во-вторых, то, что отчуждение от этой инстанции рождает духовную смерть. Притом, что источником отчуждения является капитализм.
Скажу больше: если источником отчуждения человека от бога является враг рода человеческого и если это отчуждение приводит к духовной смерти человека, каковая и есть задача врага рода человеческого, то что некорректного в утверждении о том, что капитализм обладает всеми свойствами врага рода человеческого? По самому большому счету, при всей важности вопроса о том, кто именно хлопочет о духовной смерти человека, еще важнее вопрос о том, что этот кто-то это делает. И этот кто-то — враг рода человеческого.
Что некорректного в этих моих утверждениях, абсолютно созвучных по форме и содержанию тому, что Эрих Фромм говорит о Марксе, для которого, по мнению Фромма, капитал — это смерть, а труд — это жизнь? Если труд — это родовая сущность, она же — некий светский вариант бога или абсолютной идеи, то такому богу и такой идее и полагается быть источником жизни. А если капитал — это отчуждение от родовой сущности, то есть светский вариант отпадения от бога или от абсолютной идеи, то ему и полагается быть смертью, врагом рода человеческого и так далее.
Фейербах пишет:
«
Поэтому всё то, что в смысле трансцендентного умозрения и религии имеет лишь значение производного, субъективного или человеческого, значение средства, органа в смысле истины, имеет значение первоначального, существенного, объективного. Так, например, если чувство — существенный орган религии, то, следовательно, сущность бога есть не что иное, как сущность чувства. Истинный, но скрытый смысл слов: «чувство есть орган божественный» — заключается в том, что чувство есть самое благородное и возвышенное, то есть божественное в человеке. Ты бы не мог постигать божественное чувством, если бы чувство не было божественного происхождения. Божественное познается только через божественное, «бог только через себя самого познается». Божественная сущность, постигаемая чувством, есть не что иное, как очарованная и восхищенная собой сущность чувства, — восторженное, блаженное в себе чувство.
Это явствует хотя бы из того, что там, где чувство становится органом бесконечного, субъективной сущностью религии, объект последней теряет свою объективную ценность. С тех пор как чувство сделалось главной основой религии, люди стали равнодушны к внутреннему содержанию христианства. Если чувство и приписывает предмету некоторую ценность, то это делается только ради самого чувства, которое связывается с ним, быть может, только по случайным основаниям; если бы другой предмет возбуждал те же чувства, он был бы столь же желательным. Предмет чувства становится безразличным, потому что чувство, признаваемое субъективной сущностью религии, действительно становится также её объективной сущностью, хотя это и не признается непосредственно. Непосредственно, говорю я, потому, что косвенное признание этого факта заключается в том, что чувство, как таковое, признается религиозным, чем уничтожается всякое различие между специфически религиозными и иррелигиозными или во всяком случае нерелигиозными чувствами — необходимое следствие взгляда на чувство, как на единственный орган божественного. Ты считаешь чувство органом бесконечного, божественного существа только в силу его сущности, его природы. Но свойства чувства вообще присущи каждому отдельному чувству независимо от его объекта. Что же делает это чувство религиозным? Определенный объект? — нисколько, потому что каждый объект религиозен только в том случае, если он является объектом не холодного рассудка или памяти, а чувства. Значит, что же? — самая природа чувства, присущая каждому отдельному чувству, независимо от объекта последнего. Следовательно, чувство признается священным только потому, что оно чувство; причина его религиозности заключается в природе самого чувства, лежит в нем самом. Значит чувство признается абсолютным, божественным? Если чувство хорошо и религиозно, то есть священно, божественно по себе, то разве оно не заключает своего бога в себе самом? »
Конечно же, такой подход категорически неприемлем для религиозного человека. Но никто и не предлагает религиозному человеку принять подобный подход.
Предлагается совсем другое. Осознать, что полнота чувства для Фейербаха и Маркса мыслима только при отсутствии отчуждения от родовой сущности, этого светского аналога бога и абсолютной идеи. И что если отчуждение имеет место и нарастает, то возникает неполнота чувства (а также неполнота воли, разума и так далее), то есть духовная смерть. И чем больше отчуждение — тем больше этой смерти в человеке. А ведь Маркс и Фейербах считают подобную смерть погибелью.
Подобная логика (кстати, почему бы не назвать ее диалектической?) с неизбежностью приводит нас к такому выводу: и Маркс, и Фейербах конструируют родовую сущность как светский аналог бога или абсолютной идеи и за счет этого отмежевываются от бога и абсолютной идеи. Но этот светский аналог, по сути, — всё тот же бог в атеистическом варианте. Отпадение от него — всё та же духовная смерть, то есть погибель. Вся внутренняя структура религиозности сохраняется внутри такого атеизма. И это позволяет Фромму назвать марксизм и коммунизм светской гуманистической религией.
(Продолжение следует.)