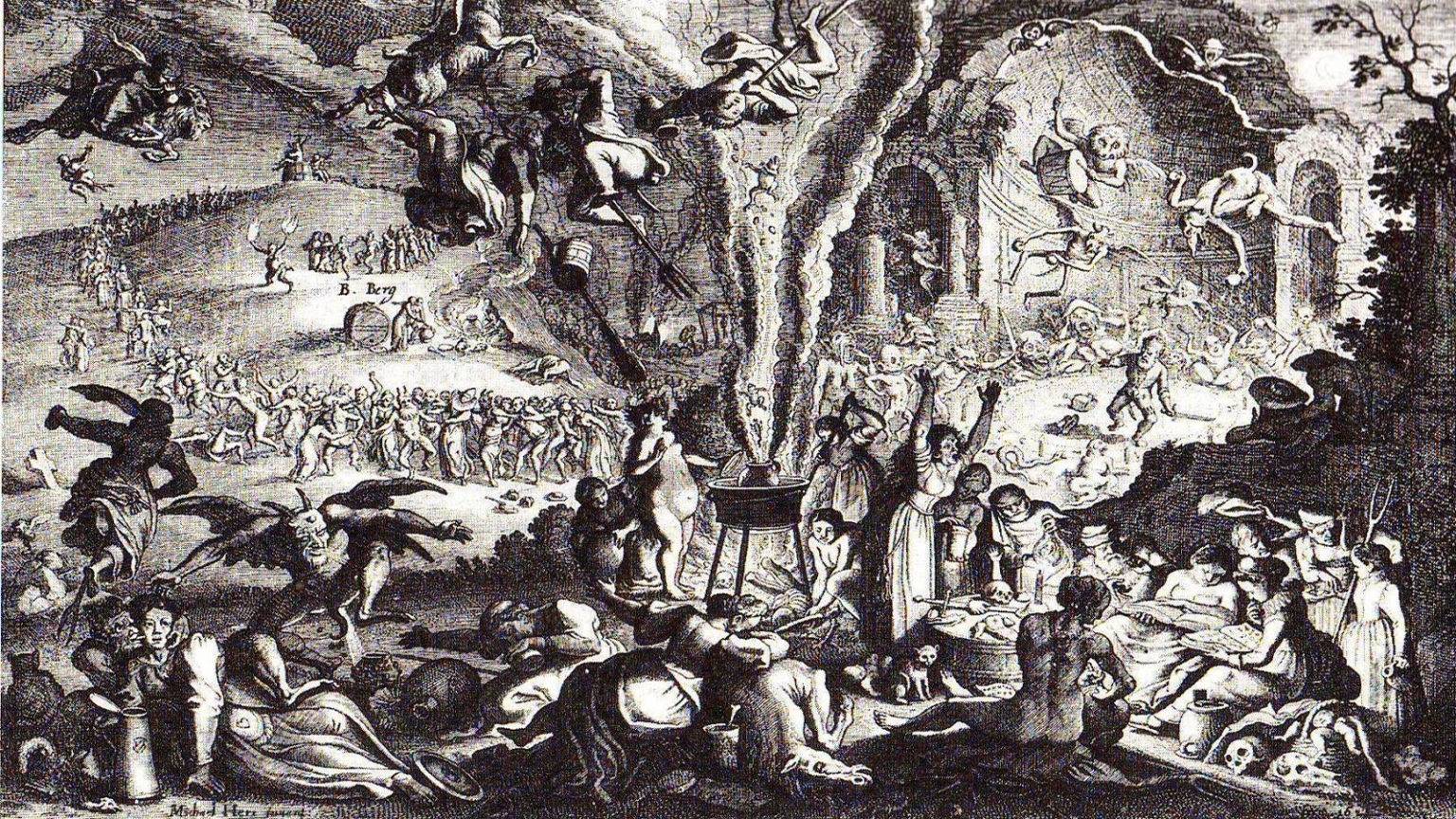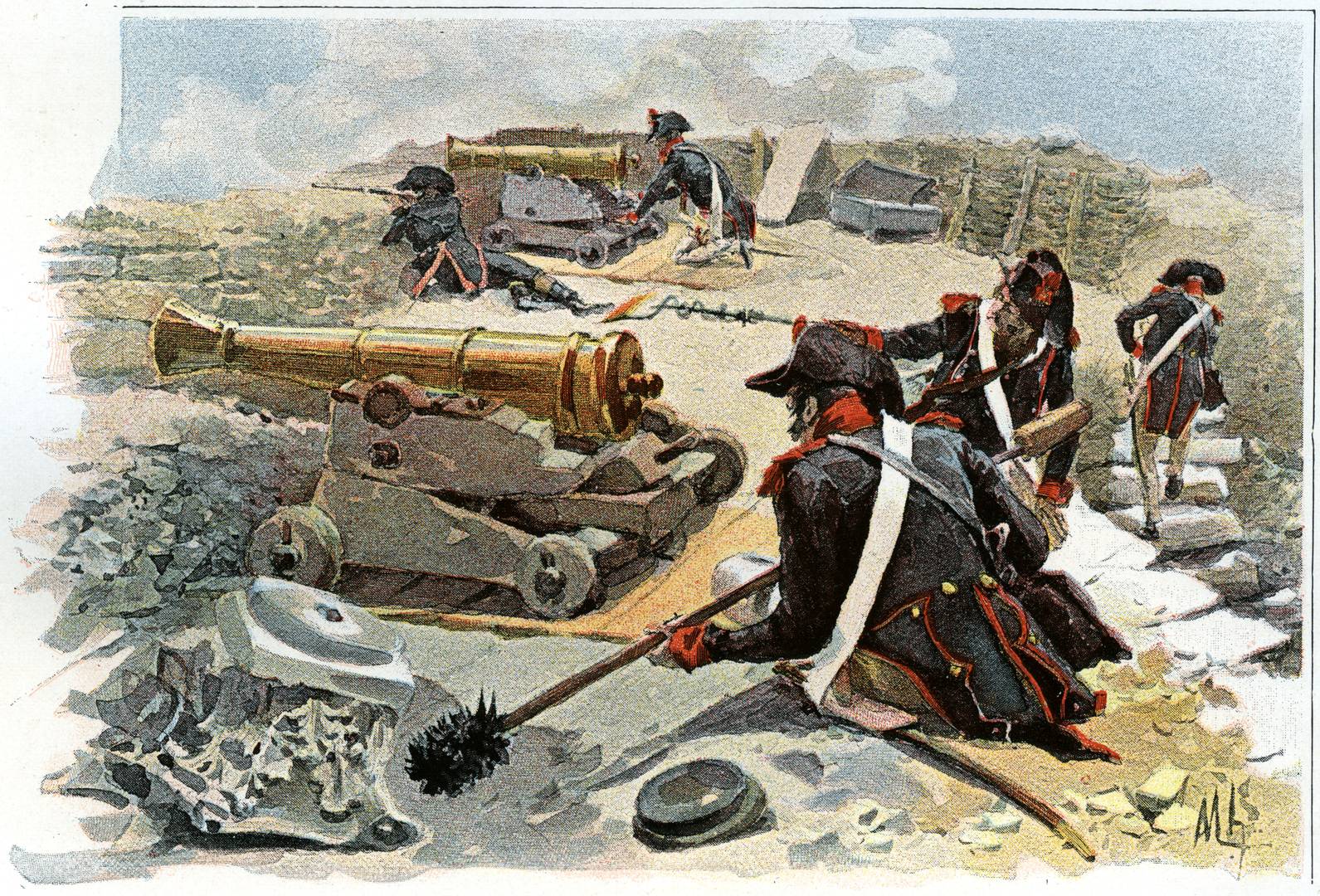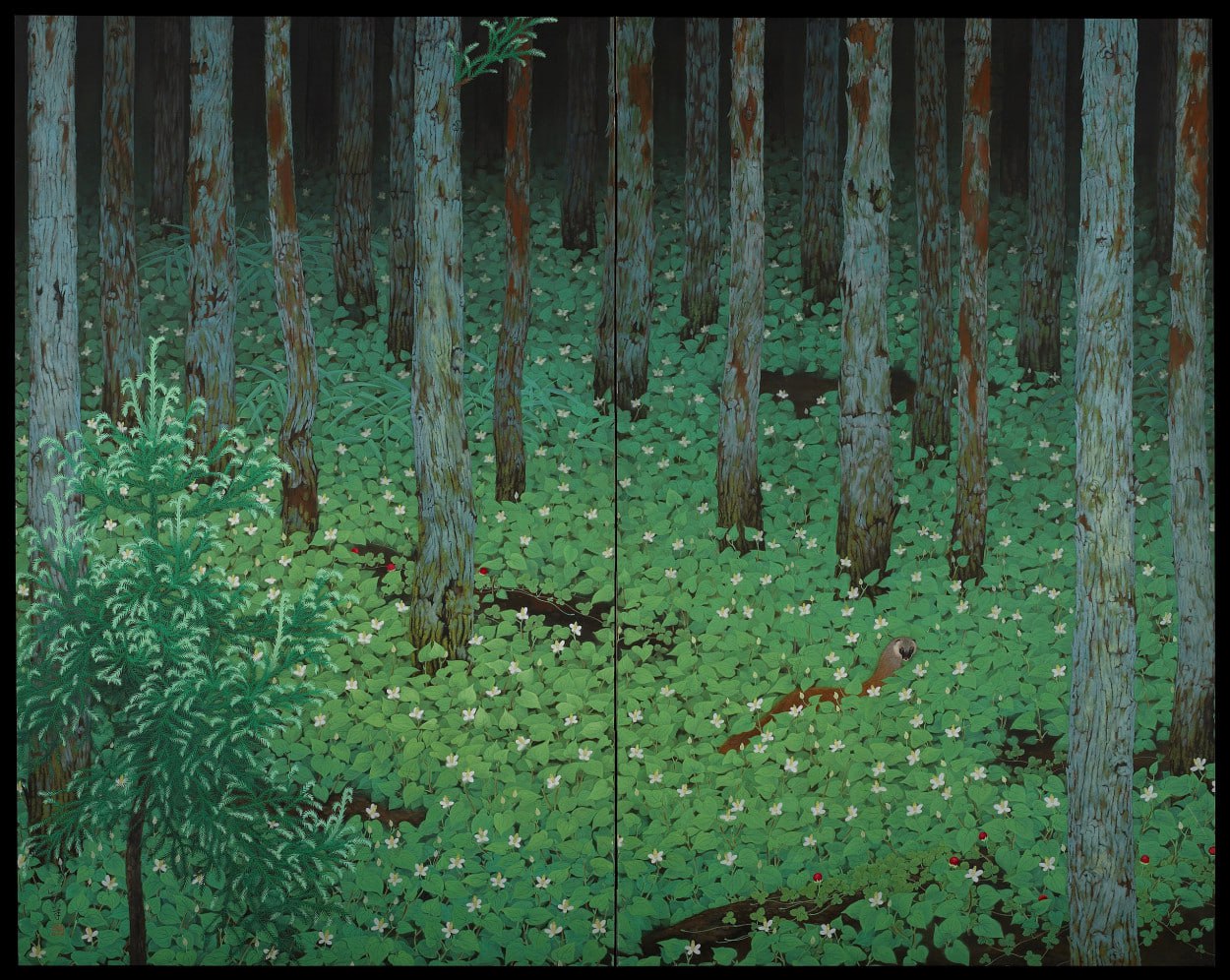О коммунизме и марксизме — 114

Он всё понимает, говорил мне один особо продвинутый собеседник, которому я предложил поразмышлять по поводу одной из песен Окуджавы. Песня называлась «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину».
Он совсем не такой чудак, которым хочет казаться, — убеждал меня этот продвинутый собеседник, — он достаточно культурный человек, умный, холодный, жесткий. Уверяю Вас, он понимает всё от и до.
Свою песню по поводу фотографирования у памятника Пушкину, причем фотографирования приезжей (то есть провинциальной) семьи, Булат Окуджава посвятил Александру Цыбулевскому.
Цыбулевский родился в Ростове в 1928 году. В 1930 году родители перевезли его в Тбилиси. Цыбулевский считал Тбилиси, который до 1936 года назывался Тифлис, своей духовной родиной.
Этот тонкий и умный человек отсидел 8 лет в Рустави, где еще с дореволюционной поры содержали заключенных, заслуживающих особого внимания. Сел он в первые послевоенные годы, а вышел после расстрела Берии.
Группа, в которую входил Цыбулевский, официально называлась «Молодая Грузия». Ее настоящее название — «Смерть Берии». Название впечатляет. Как впечатляет и то, что Цыбулевский за участие в столь экстравагантном начинании не был ни расстрелян, ни отправлен на Колыму. Руставская зона заключения — отнюдь не санаторий. Но это не Колыма и не лагерь особого режима. Считается, что Цыбулевский получил 8 лет за недонесение. Возможно, это действительно так. А возможно, имеет место попытка сконструировать определенную биографию.
Булат Окуджава был в очень близких отношениях с Цыбулевским. Таких близких, что ближе не бывает. Труднее определить отношения между Окуджавой и человеком, который жил на той же улице, что и Окуджава (улица Петра Первого в районе Сололаки в старом Тбилиси).
На одной улице с Окуджавой жил Чабуа Амирэджиби (1921–2013), фигура в высшей степени странная. Это крупный писатель, очень страстный и серьезный борец с режимом, реальный представитель княжеского рода, сын репрессированных.
В 1944 году он был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в студенческой политической группе «Белый Георгий». Дальше начинаются странности. Чабуа бежит, оказывается директором крупного белорусского завода, ездит за границу, снова попадает в тюрьму, участвует в тюремных восстаниях. При этом первая книга Чабуа выходит в 1962 году.
Что такое «Белый Георгий» (по-грузински, «Тетри Гиорги»)? Это организация грузинских националистов-эмигрантов, основанная в Париже в 1925 году генералом Левоном Кереселидзе и профессором Михаилом Церетели. Среди почетных членов организации был Шалва Маглакелидзе, один из создателей «Грузинского легиона», воевавшего в составе вермахта в ходе Второй мировой войны.
В 1942 году в состав организации «Тетри Гиорги» влилась грузинская национал-социалистическая группа, и «Тетри Гиорги» был переименован в Грузинскую национал-социалистическую партию «Тетри Гиорги». Эта забугорная организация создала в советской Грузии три подпольных ячейки, одной из которых руководил Чабуа Амирэджиби.
После распада СССР символику «Тетри Гиорги» подхватили радикалы из «Мхедриони».
Повторяю, вопрос о том, как именно строились отношения Окуджавы с представителями «Тетри Гиорги», неоднозначен.
Но есть и достаточно однозначные сюжеты. В 1956 году Окуджава вступил в КПСС. В 1972 году он был исключен из партии за публикацию произведений в журнале НТС «Посев». Еще раньше — в 60-е годы — на Западе начали выходить пластинки Окуджавы.
Тогда же, в 60-е годы, в «Посеве» вышла статья «Лето московское 1964». В статье некий Михайло Михайлов обсуждал тонкую специфику творчества Окуджавы.
Исключение Окуджавы из КПСС как-то странно сошло на нет. Оно было отменено после невнятного заявления Окуджавы о том, что кое-кто неверно трактует его творчество. Первый сборник стихов Окуджавы вышел в СССР в 1964 году. Но одновременно с этим всё в том же «Посеве» начали издаваться произведения Окуджавы.
В 1979 году, когда советская система не подвергалась никаким трансформациям, была очень жесткой и категорической, когда культурная политика полностью контролировалась очень ортодоксальными (хотя и двусмысленными) фигурами, Окуджава дает концерт в Нью-Йорке. Подчеркну еще раз, это не эпоха Горбачева. Это даже не тот короткий период, в течение которого Андропов пытался создать какие-то гибридные схемы, сочетающие жесткость с гибкостью, репрессивность с открытостью. Это апогей брежневизма. Мне скажут, что всё бывает.
Во-первых, не всё.
Во-вторых, оно же не просто бывает. У такого «бывает» в СССР всегда были фамилия, имя, отчество, год рождения и всё прочее, включая очень высокий статус.
Но не это главное. И даже не то, что Окуджава в постсоветскую эпоху, если верить его обожателям, очень гибко повел себя в вопросе о таких грехах молодости, как его песня о комиссарах в пыльных шлемах. Кто как вел себя в постсоветскую эпоху — это вопрос отдельный. И не в НТС главное, не в «Посеве». Главное, как ни странно, в посвящении песни, которую я обсуждаю, Александру Цыбулевскому. И опять же вопрос не в том, где сидел в определенные годы этот друг Булата Окуджавы.
Вопрос в том, что Цыбулевский — это действительно близкий друг и, в каком-то смысле, культурный гуру Окуджавы. Это первый наставник Окуджавы в творчестве. И это достаточно рафинированный интеллектуал. А также литературовед, а также... особый любитель фотографии. Причем человек, знакомый с философией фотографии.
Что такое философия фотографии?
В своем рассказе «Путь ложных солнц» Джек Лондон обсуждает с индейцем Ситкой Чарли всё, что связано с остановившимся изображением. Не с фотографией, нет. А с остановившимся изображением как таковым. Ситка Чарли рассматривает картины и настаивает на том, что он в них ничего не понимает. При этом он понимает очень многое. Рассматривая одну из картин, он рассказывает о том, что на ней изображена больная девочка, что болезнь, видимо, серьезная, потому что доктор, изображенный на картине, смотрит сурово, а мать плачет. Автор радуется, как много понимает Ситка в картине, а Ситка спрашивает автора: «Маленькая девочка — она умрет? <...> Умрет она? Ты — художник. Может быть, знаешь».
Автор отвечает Ситке, что он не знает. И тогда Ситка говорит ему: «Это — не жизнь. <...> В жизни девочка умрет или выздоровеет. В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится».
Автор хочет достучаться до Ситки и объясняет ему, что картина — это кусок жизни. Автор говорит: «Представь себе, Чарли, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала, ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины».
Ситка Чарли подхватывает мысль автора и обсуждает с ним картину, которую он видел в доме автора. На этой картине изображены карточные игроки, которым предстоит открыть карты и понять, кто выиграл, а кто проиграл.
Ситка Чарли очень подробно раскрывает мысль автора картины. Автор подхватывает сказанное Ситкой Чарли и говорит ему: «И, однако, ты не знаешь окончания! <...> Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет, а кто проиграет».
Поняв мысль автора, Ситка Чарли в ужасе восклицает: «И люди будут сидеть там и молчать. <...> И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты».
Джек Лондон обсуждает здесь философию статического изображения. Оно же — обрывок жизни. Он обсуждает это на примере картины. Но с особой силой эта же проблема обсуждалась в связи с пришествием фотографии. Фотография взорвала дофотографический мир так же, как потом его взорвали кино, телевидение. Фотография позволила остановить мгновение реальной жизни. Не той жизни, которая изображена на картине и содержит в себе условность при любой степени реалистичности картины как произведения искусства. А той настоящей жизни, момент которой, как выяснилось, можно зафиксировать именно как момент, то есть как остановившееся мгновение. А кто обсуждал остановившееся мгновение как философскую и метафизическую проблему? Это обсуждал гётевский Фауст, оформляя свой диалог с Мефистофелем.
По рукам!
Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» —
Всё кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, — я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.
Фотография, явившись в дофотографический мир, предложила этому миру особый тип остановленного мгновения. Это сейчас такая остановка кажется естественной. А тогда она завораживала, приводила в шок, действовала так же, как потом действовали первые киноленты. И, конечно же, речь шла не просто о шоке, а о его осмыслении. Шок остановки ставил вопрос о смысле «жизни без начала и конца» (первые строки блоковского «Возмездия»).
Великий итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони (1912–2007) делает героем одного из лучших своих фильмов «Фотоувеличение» («Blowup») именно фотографа. Этот фотограф с помощью фотоувеличения обнаруживает нечто странное и пытается избавиться от обнаруженного, внушая себе, что это морок. Что же он обнаруживает? Неизвестного с пистолетом, лежащее в кустах тело.
Фильм Антониони является своеобразной притчей о фотографии. Он снят по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Кортасар написал свой рассказ под впечатлением фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор».
Все это известно и Окуджаве, и его учителю, которому Окуджава посвящает свою песню. И всё же не Антониони, не Кортасар, не Джек Лондон являются художниками, завороженными философией фотографии. Таким художником является великий норвежский драматург и философ создатель новой социально-психологической драмы Генрик Ибсен (1828–1906).

Одним из самых выдающихся произведений Ибсена является «Дикая утка». Ибсен написал эту драму в 1884 году. Ее главный герой — фотограф Ялмар Экдал. Ибсен не испаряет реальность, как испаряют ее Кортасар, Антониони или Хичкок. Он бережно и специфически описывает реальность, насыщая ее чем-то загадочным. И эта загадочность имеет прямое отношение к фотографии. Ялмар Экдал стал фотографом потому, что ему это порекомендовал богатый бизнесмен, отец друга Ялмара — Грегерса Верле.
Ялмару приходится заняться фотографией, потому что его отец разорен и опозорен. И нет никакой возможности справиться с навалившимися на Ялмара обстоятельствами. И надо же: на помощь приходит отец Грегерса — богатый коммерсант Верле. Верле дает Ялмару деньги на создание фотопредприятия и вовлекает Ялмара в игру, которая отвечает интересам богача Верле. При этом Верле вовлекает Ялмара так, что он этого не замечает. А потом оказывается, что Ялмар попал в ужасную ловушку. И что за то легкомыслие, с которым Ялмар в эту ловушку забирался, как бы не замечая, что речь идет о ловушке, расплачивается четырнадцатилетняя дочь Ялмара Хедвиг, которая слепнет, безумно любит отца и вдруг обнаруживает, что любимый отец не считает ее своей дочерью. Хедвиг кончает с собой. И тогда некий фотоувеличитель вдруг раскрывает подлинное содержание истории Ялмара, тогда обнаруживается, кем именно является Ялмар на самом деле.
Ибсену нужно погрузить всё это в стихию фотографии. Он делает это примерно с той же целью, с какой в эту же стихию погружают своих героев Антониони, Кортасар, Хичкок. Ибсен обнаруживает всё те же «слюни дьявола». Но он делает это почти незаметно, будучи уверенным в том, что именно такое «почти» придает обнаружению особую остроту.
Я вынужден ограничиться отдельными примерами того, что связано с метафизикой фотографии и именуется «слюни дьявола».
Могли ли всего этого не знать Окуджава и его гуру Цыбулевский?
Я возвращаюсь к началу данного песенного сюжета, к словам моего собеседника «да всё они знали». Мой собеседник был не конспирологом, готовым во всем увидеть некий заговор, а антиконспирологом, не желающим иметь ничего общего с дурнопахнущими конспирологическими экстазами. И он знал героев обсуждаемой мной песенной истории гораздо лучше, чем я. Он знал их не понаслышке и изнутри.
Сообщив читателю эти сведения, я предлагаю теперь вчитаться в текст песни Окуджавы.
Вот этот текст про фотографирующуюся приезжую семью:
На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает,
но вот что интересно:
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Все счеты кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет,
куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются...
И птичка вылетает.
На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны
(для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодейства
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Мы будем счастливы
(благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина!
И птичка вылетает.
Оставим в стороне вопрос о том, какие женщины на кого смотрят, и кто как от этого пускает слюни. Зададимся основными вопросами.
Первый — сама философия фотографии. Будем считать, что она знакома и автору песни, и тому, кому эта песня посвящена. И что эта философия вращается вокруг того, что именуется «слюнями дьявола». А также вокруг остановленного мгновения и так далее.
Второй — почему могут быть обаятельны мелкие злодейства, даже если они содеяны теми, кто фотографируется так, как это описано в песне.
Третий — как вообще могут быть обаятельны мелкие злодейства, которые, как мы знаем, не особо обаятельны, а особо пошлы и омерзительны в силу своей мелкости? Что блистательно показано, например, Чеховым. Да и тем же Ибсеном тоже.
Четвертый — кто будет проводить грань между мелкими и иными злодействами? Даже в случае, если злодейство может быть мелким. Ну, например, стукачество — это мелкое злодейство, а убийство — крупное. А если в результате стукачества человека расстреляли, то это какое злодейство?
А если в результате какой-нибудь интриги ему сломали судьбу, то что надо говорить: «Подумаешь, интрига. Это же не людоедство. Это всего лишь мелкое злодейство»?
Пятый — могут ли быть интриги и стукачество обаятельными для кого-то?
Шестой — почему они обаятельны для тех, кто понимает?
Седьмой — кто эти понимающие?
Восьмой — что именно они понимают?
Девятый — что такое «благодаренье»? Благодарение — это не благодарность. Благодарение — это выражение хвалы и прославление бога. Это вид христианской молитвы. Это глубинный религиозный ответ, который дает творцу то, что этим творцом создано. Благодарение немыслимо без трепета, оно имеет исповедальный характер. Бог благословляет творение, давая ему жизнь и спасение, а творение отвечает богу, встречаясь с богом, соприкасаясь с его благодатью, восхищаясь своим раскрытием в некоей немыслимой полноте.
Что такое благодарение Моисея?
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его».
И так далее.
Что такое благодарение Деворы?
«Попирай, душа моя, силу! <...> Так да погибнут все враги твои, Господи! Любящие же Его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!»
Что такое благодарение у Иеремии?
«Ты влек меня, Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог. <...> Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце».
Что такое благодарение в Псалмах?
«Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.
Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу».
«Да всё они это знают лучше, чем Вы, — сказал мне мой собеседник, — потому что для Вас это культурные памятники, а для них — это предмет квазирелигиозного кривляния».

В стихотворении Луи Арагона «Я говорю вам: стоит жить!», написанном, как и песня Окуджавы, в середине XX века (чуть раньше, но это совершенно не существенно), по поводу всё того же благодарения сказано следующее:
И всё же, несмотря на злые времена,
На пустоту в груди, на груз, что ломит спину,
На грусть, кладущую у края рта морщину,
На странную тоску: уж так ли жизнь нужна?
Наперекор войне, неправосудью, стонам,
Бессоннице, когда тоска, как лисий клык,
Мне в грудь вгрызается... о боже! — я привык
Всю жизнь ее носить, как мальчик, под хитоном,
И, несмотря на вой бесстыдной клеветы%br,
И, несмотря на тех, кто строят казематы,
Застенки из всего, во что так верил ты,
На дни проклятые, что ямами зияют,
На ненависть ночей с их мукой и борьбой,
На заговор врагов, что скованы с тобой
Одною цепью дней, а что творят — не знают,
И сердцу вопреки, стучащему не в лад,
И вопреки годам, и вопреки наветам,
Злорадству хитрецов и всех, кто над поэтом,
Когда печален он, поиздеваться рад,
Всех, кто из-за угла — в бездушии великом –
Швыряют, сговорясь, в лицо мне подлый хлам,
Когда жестоких дум взбесившийся бедлам
Нет силы облегчить проклятьем или криком,
И, несмотря на бред, на длинный ряд могил,
На выверты ханжей, на раны, на потери,
На всё, на всё, с чем ты — в своей дурацкой вере
В далекую лазурь — смирялся и дружил,
Да, несмотря на всё, я громко говорю,
Я каждому твержу, кто слышит не напрасно,
Что стоит жить, что жизнь всегда была прекрасна,
И на губах моих горит: благодарю!
Древние авторы говорят о благодарении богу. Арагон — о благодарении чему-то, что просветляет жизнь. Что значат в этом контексте слова Окуджавы о благодарении снимку? Они значат, что место бога, высшего смысла, духа, исторического порыва — занимает фотоснимок с запечатленным мгновением? Не слишком ли много сказано об инфернальности такого остановленного мгновения, чтобы небрежно пройти мимо всего сказанного и начать молиться на алтаре этого самого Снимка?
Десятый — почему при этом должны быть сведены все счеты и кончены все споры? Какой мощью должен обладать снимок, для того чтобы произвести такое воздействие? Он мощнее тех трансцендентальных сил, которые не обнуляют счеты и споры? Но тогда — что он такое? То, что он — божество, обитающее в некоем храме, — очевидно. Но что это за храм?
Одиннадцатый — почему эти невероятные результаты (законченных счетов и споров, обаятельность злодейств, сопричастность благодарению) возникают от того, что фотограф навел объектив и щелкнул? Ведь ты же при этом вообще не затратился ни на грош. Такие результаты могут быть куплены «на халяву»? Даже если ты слушаешь Моцарта («Моцарт на старенькой скрипке играет») — ты уже совершаешь усилие. И значит, если ты получаешь результат, то не на халяву. Но если ты просто встал, а тебя щелкнули, то имеет место чистая халява. И тогда описывается ситуация, при которой на халяву получают нечто, сходное с тем, что невероятной ценой было куплено, например, Терезой Аквильской.
Двенадцатый — почему Тверская улица «течет, куда не знает»? И кто знает, куда она течет? Семейство знает? Фотограф? Кто?
Мой собеседник тонко улыбался, выслушивая эти вопросы. Мне же нужно было убедиться в том, что я не ломлюсь в открытую дверь, не делаю из мухи слона, не навязываю людям, которые принципиально иначе, чем я, относятся к культуре вообще и к собственному творчеству в частности, свое собственное отношение.
«Все обстоит так, как Вы говорите, — сказал собеседник. И добавил: Только вот игра уже сыграна. На эту наживку клюнули. Попались на крючок и оказались поданы на стол в виде среднепитательного продукта. Чтобы после всего случившегося переломить созданную тенденцию, нужны невероятные усилия, причем речь идет не об усилиях одного человека. Время движется неумолимо. И столь же неумолимо нарастает деградация. Эта деградация носит системный характер. Она включает в себя деградацию эмоциональной сферы. Даже если все ваши обнаружения войдут в голову каких-то особо чутких нынешних деградантов, это само по себе не породит ничего существенного. Потому что вошедшее в голову (пусть даже в сердце и голову) должно быть искупительно пережито. Искупительно — значит, очень сильно, очень горько и одновременно очень боевито. Кто вам сказал, что деграданты могут так пережить хоть что-то?»
Я не стал рассказывать собеседнику, кто именно мне сказал, что не всё потеряно. А читателю скажу. Мне об этом сказал Пушкин, на фоне которого я никогда не буду сниматься, но чьи слова
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
способны излечивать самые тяжелые сомнения. В каком-то смысле мне сказал об этом и Карл Маркс. В каком именно?
Кстати, Луи Арагон был и марксистом, и коммунистом, и человеком огненным, то есть живым в метафизическом смысле слова. А когда такая жизнь еще теплится (а в России она, безусловно, теплится), то можно говорить о почти безнадежной ситуации, но нельзя сбрасывать со счетов это «почти», взыскующее искупительной страсти и искупительной воли.
(Продолжение следует.)