О коммунизме и марксизме — 135
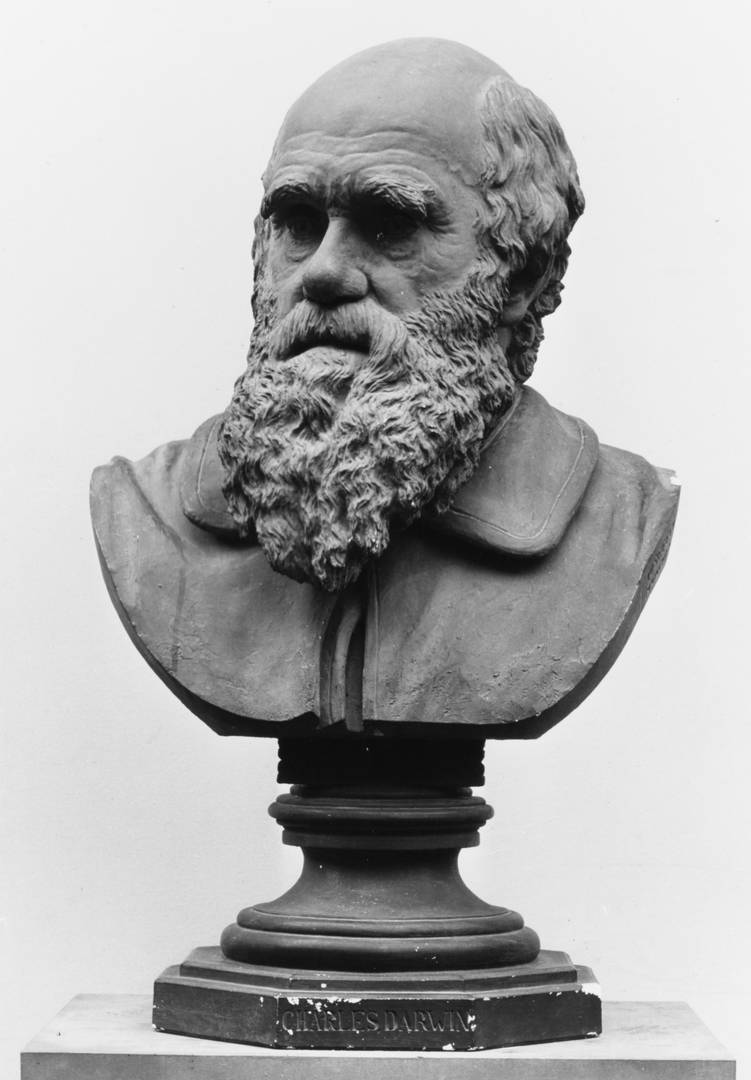
Возникшая в постсоветской России борьба сторонников и противников теории Дарвина поразительным образом проистекает из какого-то странного отношения к творчеству самого Дарвина.
Иногда складывается впечатление, что дарвинистам и антидарвинистам, ведущим эту странную полемику в постсоветской России, одинаково наплевать на Дарвина как такового.
И что в этом смысле имя Дарвина нужно только для прикрытия каких-то других размежеваний в рамках понимания природы человека, возникновения разума у не обладавших им ранее высших приматов.
По каким-то причинам настоящее содержание этого конфликта между дарвинистами и антидарвинистами не подлежит оглашению. И те, и другие почему-то должны скрывать до поры до времени всё, что связано с подлинной природой этой странной дискуссии. Они должны скрывать то, что на самом деле речь не идет о простом размежевании людей религиозных и светских. Что на самом деле речь идет о каком-то гораздо более сложном размежевании. За которым, возможно, стоит необходимость как-то соотносить свои представления с тем, что представляет собой марксистское коммунистическое учение о происхождении человека, вся марксистско-коммунистическая доктрина в целом.
Я не рискую категорически утверждать, что это так. Но почему бы не предположить, что страстное желание демонтировать марксистско-коммунистическую доктрину не превращается порой в желание искоренить всю почву, на которой эта доктрина выросла?
И что в основе борьбы с Дарвином находится то ли борьба с Марксом, осуществляемая по принципу «не победим Дарвина — воскреснет марксизм, а этого нельзя допустить», то ли желание опереться на авторитет Дарвина, извратив дарвинизм, противопоставив дарвинизм самому Дарвину.
Ведь именно в этом случае и, честно говоря, только в нем возможно такое игнорирование всего, сказанного Дарвином по поводу несводимости антропогенеза и тем более антропосоциогенеза (а Дарвин понимал, что говорить надо именно о подобной связи двух «генезов») к классическому естественному отбору.
Дарвинизм без Дарвина, марксизм без Маркса… В этом есть что-то от веления очень скверного духа нынешнего времени. Притом что суть этого веления понятна: нынешнему времени не нужны крупные страстные гении. Они чужды его духу. Они черпают свое вдохновение из тех источников, к которым наше новое время с его особо скверным духом (не путать с новым временем в его модернистском понимании) относится сугубо ненавидяще. Потому что, повторяю, порождены эти источники не просто другим духом, а тем духом, который категорически противостоит скверному духу нашего времени.
И Дарвин, и Маркс, и другие во что-то, связанное с человеком, истово верят. А скверный дух нашего нового, или точнее, супернового (слово «новейшее» уже использовано в советское время для эпохи после Великой Октябрьской социалистической революции) времени исключает всяческую веру. И в первую очередь — веру в человека. А как может быть иначе, если этот дух супернового времени является одновременно духом конца Истории, конца гуманизма, конца проекта Человек и так далее?
Но ведь данная коллизия (дарвинизм против Дарвина, марксизм против Маркса) имеет и какую-то связь с тем, что предшествует нашей скверной новизне.
Не было бы этого, не говорил бы Маркс еще при жизни, что он не марксист. И Ленин бы не говорил, что «марксизм не догма, а руководство к действию».
В отличие от Христа, Магомета и даже Будды, Маркс и Дарвин наговорили намного больше, чем их предшественники. Но даже с тем, что наговорили предшественники, конфессиональным институтам приходилось бороться на протяжении столетий — с тем чтобы изъять из определенных учений «шум и ярость личного присутствия» их отцов-основателей.
Ну скажите честно, что с этим «шумом и яростью личного присутствия» Карла Маркса (тут, повторяю, что Маркс, что Дарвин, что другие) должен делать какой-нибудь прагматический коммунист? Или ничуть не менее прагматический псевдоэкстатичный полуграмотный левак? На него как этим дыхнет, так он враз окочурится. Значит, единственное, что он хочет, чтобы никогда этим самым «шумом и яростью», что называется, не дыхнуло.
Но ведь нам-то нужно восстанавливать это самое личное присутствие вообще и его «шум и ярость» в особенности.
Нам-то это нужно и потому, что мы боремся со скверным суперновым духом, которому это не нужно.
И потому, что эта борьба предполагает восстановление связи с настоящим духом, очищающим мир от скверны. А этот дух укоренен в том, что можно назвать личным присутствием гения, создающим те или иные учения. Он не в учениях укоренен. Их легко стерилизовать, изгнав из них этот самый дух. Именно этим занимается столь модный позитивизм. А вот из личного присутствия, из его, как я уже сказал выше, «шума и ярости», дух изгнать невозможно.
Раз так, давайте вчитаемся в то, что говорил сам Дарвин по поводу происхождения человека, и убедимся в том, что Дарвин не мог и не хотел рассматривать антропогенез как процесс чисто биологический, определяемый теми же закономерностями, которые действуют в дочеловеческом мире.
То есть, может быть, Дарвину и хотелось бы осуществить такое низведение, то бишь редукцию. Но что-то наиважнейшее, обитавшее внутри его гениальности, противостояло этому. И подсказывало, что ответ искать надо не в биологии, а в том, что касается общественной сферы. То есть в сфере единого антропосоциогенеза, существование которого так убедительно доказывает обсуждаемый нами Семенов.
Но как ни авторитетен Семенов, к чьим моделям мы еще вернемся, он не Дарвин. Он — выдающийся современный исследователь и мыслитель. По мне, так очень выдающийся. А Дарвин — это супервеличина, вокруг которой веками ведется и интеллектуальная, и идеологическая, и духовная борьба.
Причем именно не полемика, а борьба. Последняя вспышка этой борьбы в постсоветской России только убедительно доказывает, что борьба эта является именно борьбой, что носит она фактически непреходящий характер и что в ее истоках находится какое-то неявное содержание собственно политического характера. Причем такое, которое пока еще обнажать негоже.
Да, кстати, каково полное название работы Дарвина о происхождении человека? Она ведь не называется просто «Происхождение человека». Она называется «Происхождение человека и половой отбор». Ну так представим себе, что этот половой отбор надо отменить и вернуть всё, например, к дочеловеческой или проточеловеческой неразборчивости. И сделать это, лживо говоря о прогрессе рода человеческого и при этом ссылаясь на Дарвина. А тут вам бац! — сам Дарвин. И прямо в заглавии уже сказано о том, что вы можете осуществлять, только признав, что хотите вернуть человека в дочеловеческое состояние. Или, точнее, отменив то, что его вывело из этого состояния.
А это порождает последствия еще худшие, чем просто возвращение в дочеловеческий или проточеловеческий животный псевдорай. Потому что туда-то человека уже не вернешь. Слишком много произошло разного рода изменений. Значит, нужно сделать что-то намного более скверное. Ну и зачем в этом признаваться заранее? Не лучше ли организовать, с одной стороны, стерилизацию Дарвина так называемыми дарвинистами, а с другой стороны, шельмование Дарвина фундаменталистами без всякого реального обращения к реальному Дарвину?
Вам это не напоминает то, что происходит с Марксом на нынешнем этапе так называемых дискуссий о марксизме? Мне — так очень напоминает.
Сделав такую важную заметку на полях, я начинаю знакомить читателя с тем, что говорит сам Дарвин об антропосоциогенезе и невозможности его полного сведения к дочеловеческому естественному отбору. То есть я не могу сказать, что Дарвин просто берет и говорит: «Моя теория здесь не действует». Он мучительно размышляет о том, действует или не действует. Ему, конечно, хочется, чтобы действовала. Но мухлевать в этом вопросе он не может, потому что он — Дарвин. А мучительные размышления о возможности или невозможности такого низведения к естественному отбору дают такой результат.
Прежде всего Дарвин дает определение нравственного существа.
«Нравственным существом, — пишет он, — мы называем такое, которое способно обдумывать свои прошлые поступки и побуждения к ним, одобрять одни и осуждать другие. То обстоятельство, что человек есть единственное существо, которое с полной уверенностью может быть определено таким образом, составляет самое большее из всех различий между ним и низшими животными».
Дав такое определение и указав на уникальность человека, Дарвин пытается соорудить мост между этой уникальностью и биологической эволюцией с ее несомненным для него естественным отбором. Пытаться-то он пытается. Но, поставив во главу угла представление об уникальности человека и возведя на пьедестал нравственность в виде основы этой уникальности, он изначально обрекает себя на обнаружение невозможности сделать то, что так хочется сделать, на обнаружение невозможности распространения на эту уникальность того, что действует за ее пределами.
То есть Дарвин начинает сомневаться в том, что ему пытается вменить кондовый дарвинизм. Если это так, то мы по ходу дела обнаруживаем, что лежит в основе стремления оторвать Дарвина от дарвинизма.
Мы обнаруживаем, что в основе этого стремления лежит необходимость категорически отвергнуть эту несводимость, а также всё, что вытекает из нее вообще и из феномена нравственности в частности. А также саму нравственность. Значит, дарвинисты эту самую нравственность от учения Дарвина пытаются оторвать (что при знакомстве с первоисточником невозможно, а значит, не нужен первоисточник), а антидарвинисты бьют по дарвинизму, не замечая этой подмены, и тем самым в своем фундаменталистском раже содействуют тому, на что работают дарвинисты. И тем, и другим надо сказать «сгинь!» самому Дарвину. И какая разница, как именно это делать.
То же самое касается Маркса.
Но давайте продолжим знакомство с высказываниями самого Дарвина. Вот что он пишет в этой же своей работе со столь отвратительным для нынешнего постмодернизма названием.
Дарвин отнюдь не заявляет сходу о том, что его теория естественного отбора не работает в рамках человеческой нравственной уникальности. Он, напротив, всячески пытается заставить эту теорию заработать. Как именно? Например, обращая внимание на то, что место естественного отбора, играющего решающую роль в дочеловеческом мире, может занять воспроизводство умственных и нравственных способностей.
И что якобы эти способности, которые, в принципе, носят явно не сводимый к естественному отбору характер, можно объяснять естественным отбором, если предположить, что они могут аж наследоваться. Кем? Протолюдьми, которые их как-то приобрели?
Во-первых, как они их приобрели?
А, во-вторых, этого же не происходит даже сейчас — как оно могло происходить в незапамятные времена? Но всё же главное в том, что для того, чтобы что-то наследовать, надо этим обладать. А для того, чтобы этим обладать, это должно быть. А как оно перепрыгнуло из отсутствия в наличие, из «не быть» в «быть»? Как оно возникло? Притом что это «оно» — это и разум, и нравственность.
Дарвин утверждает следующее: «Сомневаться в большом значении умственных способностей невозможно, потому что человек обязан главнейшим образом им своим господствующим положением в мире. Мы можем видеть, что при самом примитивном состоянии общества личности, наиболее смышленые, изобретавшие и употреблявшие наилучшим образом оружие и западни и наиболее способные защищать самих себя, должны были вырастить наибольшее число потомков. Племена, заключавшие наибольшее число таких даровитых людей, должны были увеличиваться в числе и вытеснять другие племена. Численность народонаселения зависит прежде всего от средств к существованию, а эти последние отчасти от физической природы страны, но гораздо более — от уменья пользоваться ими. Когда одно племя увеличивается в числе и одерживает верх, то оно часто увеличивается и за счет того, что поглощает другие племена».
Во-первых, совершенно непонятно, почему самые смышленые и даровитые люди должны вырастить наибольшее число потомков. Если бы всё решала их индивидуальная смышленость и даровитость, то тут могли бы быть какие-нибудь объяснения. Мол, у них оказалось больше пищевых ресурсов, и они, лучше питаясь, народили больше детей. Или, в отличие от других, смогли их прокормить, а у других дети погибли от голода. Но ничего такого не было. Потому что пищевые ресурсы были общими и добывались сообща. Поэтому эти смышленые и даровитые имели то же, что и остальные.
Во-вторых, никакого индивидуализма не было. Но предположим, что он бы был. И что? В условиях такого индивидуализма у смышленых и даровитых пищу просто бы отобрали другие, более сильные и примитивные. А то, что смышленые и даровитые еще и могли бы лучше всего себя защищать — извините! Если бы дело было так, то история человечества была бы совсем иной.
И, в-третьих, больше или меньше смышленых и даровитых в разных племенах — какая разница? Зачем их иметь много в одном племени? Тут ведь вопрос не в количестве, а в качестве.
Далее Дарвин начинает говорить о том, что племя, которое выделяется по смышлености и даровитости, лучше ест, и его представители становятся физически более сильными. Но человек не физической силой победил тигра или слона. Или медведя, или волка. И сколько тут ни прибавляй веса за счет хорошего питания, ничего не изменится. Ясно, что победил он не за счет этого.
Внимательно читая Дарвина, мы обнаруживаем, что он, в отличие от его последователей, ощущает неспособность своей теории естественного отбора объяснить то, что касается антропосоциогенеза. И что он пытается, ощущая это, прорваться в какие-то новые, неэволюционные измерения бытия — с тем, чтобы там обнаружить искомое.
Понимая свою неспособность ответить на вопрос о зарождении неких способностей у человека и явный провал своей селекционной теории, согласно которой потомство умных и даровитых специально пестуется племенем с тем, чтобы пользоваться этим умом и даровитостью своих членов и их потомков, Дарвин резко поворачивает ход мысли от умственности и даровитости в сторону нравственности.
Вот как осуществляется этот стратегический поворот. Дарвин пишет: «Обратимся теперь к общественным и нравственным способностям. Для того чтобы первобытные люди или обезьянообразные родоначальники человека сделались общественными, они должны были приобрести те же инстинктивные чувства, которые побуждают других животных жить в сообществах и, без сомнения, обладать теми же общими наклонностями. Они должны были испытывать неудобство вдали от своих товарищей, к которым чувствовали известную степень любви; должны были предупреждать друг друга об опасности и помогать один другому при нападении и обороне. Всё это предполагает известную степень сочувствия, верности и храбрости. Такие общественные качества, громадную важность которых никто не оспаривает для низших животных, были, без сомнения, приобретены родоначальниками человека аналогичным образом, т. е. путем естественного отбора с помощью унаследованной привычки».
Что, по существу, здесь утверждается Дарвином? Утверждается наличие у человека некоего нравственного инстинкта, который может быть унаследован так же, как и инстинкты биологические. Откуда этот инстинкт появился — непонятно. Как он может наследоваться, то есть превращаться в полноценный инстинкт, тоже непонятно. Откуда следует его наличие в условиях нынешней вопиющей безнравственности — опять же, понять невозможно. Но вот что написано по этому поводу не Дарвином, а другими авторами.
В рассказе Чехова «Дуэль» дьякон дискутирует с биологизатором фон Кореном, этаким сторонником Дарвина из числа русских ученых конца XIX — начала XX века. Рассуждая о недееспособности христианства и связанных с ним гуманитарных наук, фон Корен, которого Чехов именует зоологом, настаивает на необходимости естественного отбора. На том, что ориентироваться надо на точные науки, а не на выдумки философов. На том, то эти выдумки философов порождены христианством. А само христианство с его учением о всеобщей любви может породить только деградацию человечества. Его оппонент, дьякон, выдвигает контраргументацию. Он спрашивает фон Корена: «Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его бог создал вместе с телом?»
Фон Корен теряется. И отвечает дьякону: «Не знаю».
Заметьте, он не отвечает ему, что нет никакого нравственного закона. Он отвечает, что не знает, откуда этот закон, но он есть. Сказав о том, что он не знает, в чем источник нравственного закона, фон Корен сразу же после этого так развивает свой ответ дьякону: «Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно».
Дьякон отвечает фон Корену: «Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?»
Фон Корен советует дьякону опираться на точные науки и утверждает, что нравственность предполагает искоренение ее разрушителей. Что тех, кто не может подняться до нравственной нормы, надо вовремя обезвредить, то есть уничтожить.
Дьякон спрашивает фон Корена: «Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?»
Фон Корен отвечает: «Несомненно».
На это дьякон восклицает: «Но ведь сильные распяли господа нашего Иисуса Христа!»
Фон Корен пускается в длительные рассуждения по поводу того, что на самом деле Христа распяли слабые, а не сильные. Весь этот разговор происходит перед дуэлью, на которой фон Корен решил убить безнравственного Лаевского.
Избавляю читателя от деталей. Но не могу не напомнить, что в итоге говорит дьякон. Спрашивая фон Корена, во что он верит — в науку ли, в естественный отбор или в Иисуса Христа, дьякон обнаруживает, что фон Корен ни во что не верит. Или, точнее, что вера его слаба. Обнаружив это, он говорит фон Корену: «Вы говорите — у вас вера… Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет, и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да… Вера горами двигает».
Сказав это, дьякон продолжает: «Так-то… Вот вы всё учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых да сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете — и всё остается на своем месте, а глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово или из Аравии прискачет на коне новый Магомет с шашкой, и полетит у вас всё вверх тарамашкой, и в Европе камня на камне не останется…
Вера без дел мертва есть, а дела без веры — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего».
Фон Корен отвечает, что подобный исход, предсказанный дьяконом, не гарантирован. Мол, это, дьякон, на небе вилами писано.
Но, во-первых, он возможность такого исхода не отрицает.
Во-вторых, мы знаем, что именно это и произошло. Просто слова настоящей горячей веры произнесли не старцы, а большевики. И это сдвинуло горы, собрало заново Россию, создало экономическое чудо, позволило выиграть великую войну.
А, в-третьих, мы видим, что происходит сейчас, в том числе и в связи с этим самым новым Магометом с шашкой.
Но я так подробно процитировал «Дуэль» потому, что Чехов не только гениальный писатель, но и мудрейший человек своего времени. При этом его мудрость носит высший, то есть сердечный характер.
Кроме того, он врач, и дарвинизм ему известен.
И, наконец, он крайне наблюдательный человек. И данный диалог есть, так сказать, портрет определенной эпохи. Фон Корен молится на Дарвина, но даже он с его поклонением перед эволюционным законом понимает, что есть то, что он называет нравственным законом. Но законом, а не наследуемым инстинктом.
Инстинкты — это врожденные поведенческие модели. Дарвин хочет сказать, что нравственная поведенческая модель носит у человека врожденный характер и должна им наследоваться? Или все-таки он имеет в виду нечто другое? Предлагаю читателю еще одну крайне, на мой взгляд, существенную цитату из того же Дарвина: «Когда два племени первобытных людей, живущие в одной стране, сталкивались между собой, то племя, которое (при прочих равных) заключало в себе большее число храбрых, верных и преданных членов, всегда готовых предупреждать других об опасности, помогать и защищать друг друга, — без всякого сомнения, должно было иметь больший успех и покорить другое. Не нужно забывать, какое огромное значение должны иметь мужество и верность при нескончаемых войнах дикарей. Преимущество дисциплинированных солдат над недисциплинированными ордами основано главным образом на доверии, которое каждый имеет к своим товарищам».
Здесь говорится не об инстинкте, а об обнаружении эффективности определенной поведенческой стратегии, позволяющей одному племени побеждать другое. Как должна была обнаруживаться эффективность этой стратегии? Кто ее должен был обнаруживать? Побежденные? Их уничтожали или порабощали. Победители? Если речь идет о заре истории человечества, то они просто съедали побежденных или завоевывали их возможности.
Вряд ли они осмысливали хоть как-то природу своей победы. На религиозном этапе развития они считали, что их бог или их тотем сильнее. Но они не могли рассуждать по принципу «поскольку нравственность побеждает, то давайте будем нравственными». Более того, они не могли даже обнаружить, что победило не абы что, а эта самая нравственность. У них не было механизма обнаружения. Мы же пытаемся выяснить, как он возник. И даже при наличии механизма связь между обнаружением и поведенческими алгоритмами требует супервысокой сознательности. Почему сейчас этой связи нет? И за счет чего она могла возникать у протолюдей?
Дарвин пишет: «Себялюбивые и сварливые люди не могут держаться вместе, а без единения нельзя ничего достигнуть. Племя, одаренное перечисленными качествами, распространится и одержит верх над другими племенами. Но с течением времени оно, как показывает история всех прошедших веков, будет, в свою очередь, покорено каким-либо другим, еще более одаренным племенем. Таким образом, общественные и нравственные качества будут иметь тенденцию постепенно развиваться и распространяться по всей земле».
И сразу же после того как им была сформулирована такая стратегия развития через конкуренцию не важно чего: стран, племен, сообществ — Дарвин сам заявляет о том, что опровергает эту стратегию: «Но можно спросить: каким образом в пределах одного племени значительное число членов было впервые наделено подобными общественными и нравственными качествами и как поднялся впервые уровень развития? Весьма сомнительно, чтобы потомки людей благожелательных и самоотверженных, или особенно преданных своим товарищам были многочисленнее потомков себялюбивых и склонных к предательству членов того же племени. Тот, кто готов скорее пожертвовать жизнью, чем выдать товарищей, чему известно столько примеров между дикарями, часто не оставляет потомков, которые могли бы наследовать его благородную природу. Наиболее храбрые люди, идущие всегда на войне в первых рядах и добровольно рискующие жизнью для других, должны в среднем гибнуть в большем числе, чем другие. Поэтому едва ли окажется вероятным (имея в виду, что здесь не идет речь о победе одного племени над другим), чтобы число людей, одаренных такими благородными качествами, или уровень их развития могли возрасти путем естественного отбора, т. е. в результате переживания наиболее приспособленных».
Ну вот мы и убедились, что сам Дарвин отрицает в итоге собственных размышлений возможность победы нравственности в силу естественного отбора. Он сначала говорит о такой победе, а потом сам себя опровергает. На то он и гений. Потому что гениальность основана не только на супервыдающихся умственных способностях, но еще и на такой же супервыдающейся честности. Причем честности перед самим собой. Гению нужно мысль разрешить, а не свести концы с концами и отрекомендоваться в виде создателя выдающейся теории.
Дальше Дарвин начинает рассуждать о том, что самопожертвование могло быть вызвано желанием завоевать одобрение племени. Но видно по интонации, в которой говорится обо всем этом, что он сам всерьез не верит подобным утверждениям. И что по существу им сказано одно: нравственность имеет ключевое значение, но она не может быть порождена естественным отбором — значит, она должна быть порождена чем-то другим, но чем-то она порождена быть должна.
Налицо очевидная перекличка между книгой Дарвина и тем спором из повести Чехова «Дуэль», с которым я познакомил читателя. Ну и как же разрешать эту проблематику вообще? И как разрешалась она в рамках исследуемой нами крайне важной коммунистической, марксистской суперконцепции?
(Продолжение следует.)

















