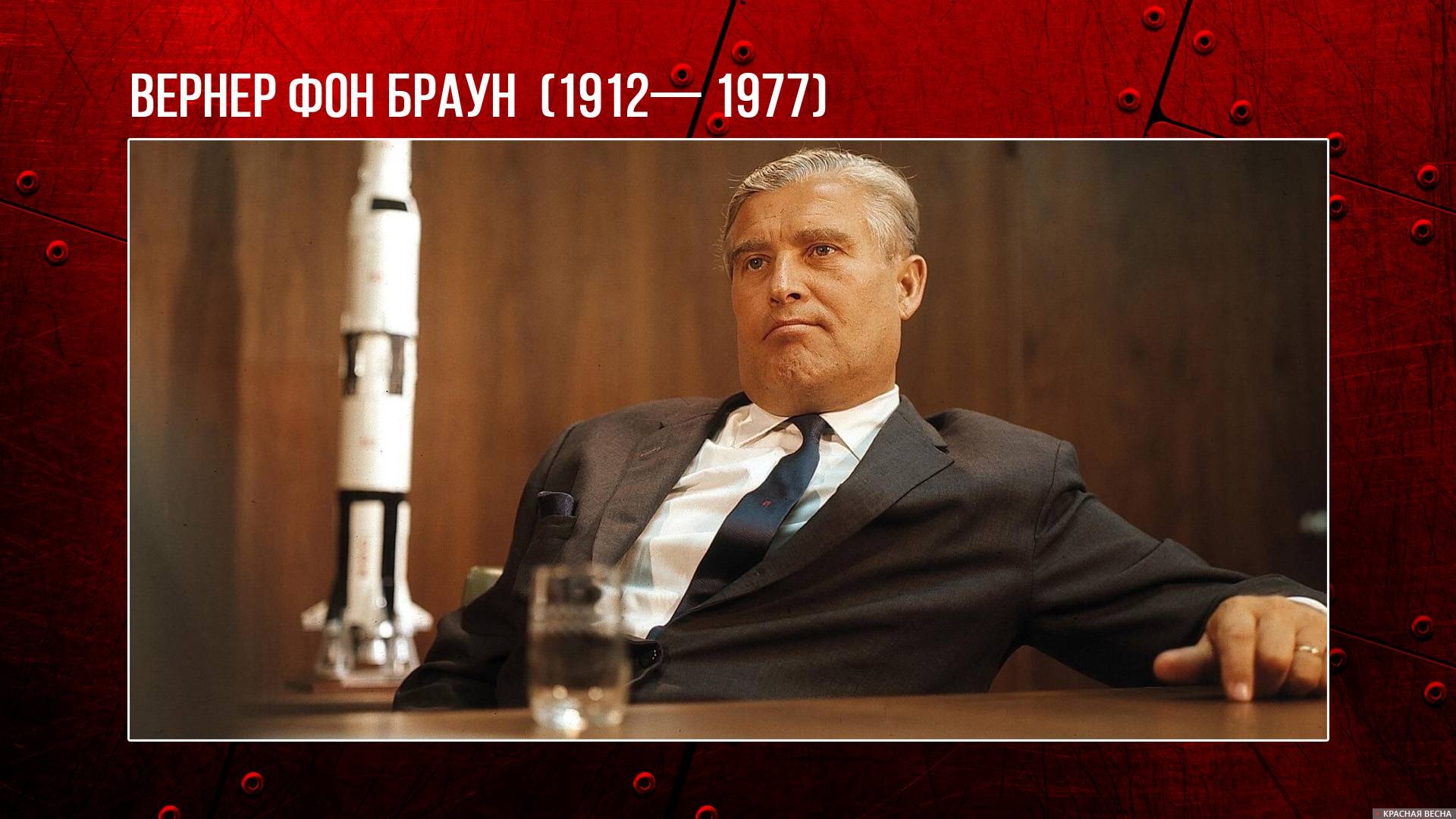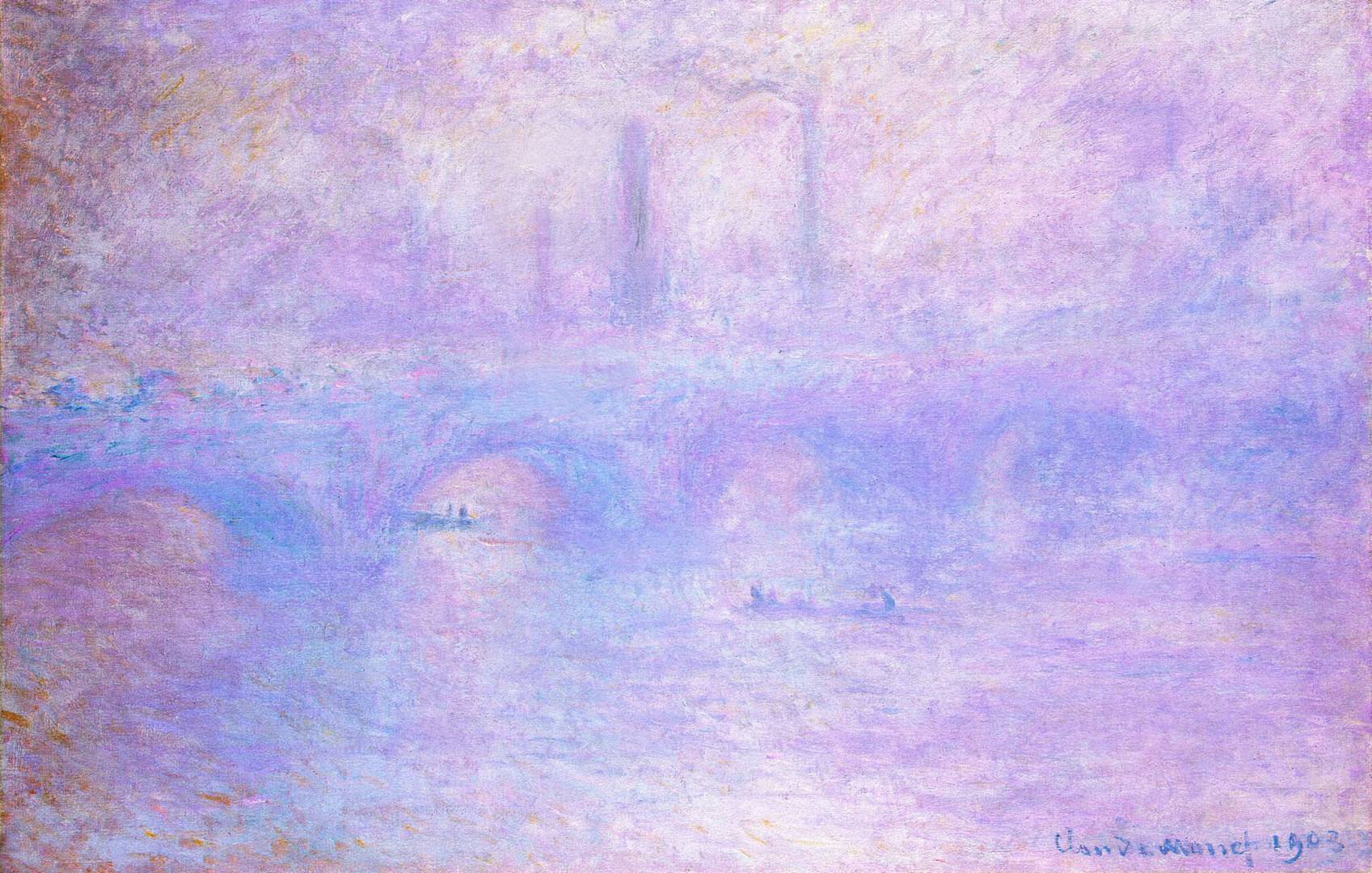О коммунизме и марксизме — 115

Почему я считаю, что в России живая жизнь еще теплится? Каким образом провожу разграничения между настоящей живой жизнью и тем, что можно назвать постжизнью?
А почему бы и нет? Если уже открыто говорится, причем высокими западными авторитетами, о постгуманизме, конце проекта «Человек» и конце истории, то почему бы не сказать и о конце жизни, используя при этом слово «конец» примерно так, как его используют постмодернисты? Если постмодернисты говорят о конце проекта «Человек», рассматривая представителей рода человеческого, коим предстоит жить после окончания данного проекта в качестве постлюдей, то почему существование постлюдей надо называть человеческой жизнью, а не постжизнью?
Кстати, для того чтобы говорить о постжизни, совершенно необязательно заимствовать постмодернистскую лексику. Задолго до постмодернистов о том же самом сказал Достоевский — устами того антигероя, которого он вывел в «Записках из подполья».
Заявив о цели, достижения которой, по его мнению, человек «ей богу как-то боится», и поставив знак равенства между любой целью и формулой, которую он назвал «дважды два четыре», герой «Записок из подполья» далее говорит: «А ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти».
Тут самое важное в самом словосочетании «начало смерти». Потому что в биологическом смысле смерть не может длиться. Она наступает и констатируется в качестве таковой. А то, что ей предшествует, — это не смерть, а агония. Но и постмодернисты, и герой «Записок из подполья», и многие другие (например, папа римский Иоанн Павел II, называвший современную западную цивилизацию цивилизацией смерти) не говорят о биологической смерти, которая не может длиться. Они говорят о какой-то другой смерти. Той, которую правомочно было бы назвать духовной, если бы, во-первых, было некое общечеловеческое согласие в вопросе о наличии духа (нельзя говорить о духовной смерти, если духа нет), и если бы, во-вторых, о духовной смерти не говорилось бы слишком часто.
Причем настолько часто, что само это словосочетание — «духовная смерть» — начинает смахивать на стереотип, на нечто стандартно-автоматическое, а значит, неспособное по-настоящему раскрывать, чем именно «смерть вживе» отличается от подлинно живой жизни.
К сожалению, словосочетание «духовная смерть», которое могло бы при его правильном использовании раскрыть подлинное содержание обсуждаемой нами проблемы, не может быть использовано нужным образом. Вы начнете говорить о духовной смерти — вам твердо скажут, что она представляет собой отпадение от бога. И начнут обсуждать это отпадение, роль первородного греха, его преодоление и прочее.
Читатель спросит: «А может, на самом деле, всё так и обстоит?» Отвечаю: я бы, может быть, и согласился с таким определением, если бы не сталкивался с живой жизнью в ее нерелигиозном и даже антирелигиозном обличии. А также со смертью вживе, вполне сочетаемой с религиозным надрывом, с предельно серьезным отношением ко всему, что касается религии.
Мне на это ответят: «Так религиозный надрыв — на то и надрыв, чтобы представлять собой фактическую антитезу настоящему религиозному чувству».
Подчеркиваю: я не против такого настоящего религиозного чувства. Я очень даже за него. Но часто ли вы встречаетесь с ним в современном мире? И что всё же делать с теми нерелигиозными людьми, кто очевидным образом обладает огромной жизненной силой, в основе которой — готовность служить тому, что для человека является очевидным благом? Служить в ущерб себе, доводя это служение до настоящей жертвенности и при этом являя собой образец жизненной полноты? Откуда у этих совсем не религиозных людей такая жизненная сила, и почему она так редко проявляет себя в нынешнем сообществе людей, убежденных в том, что они верят по-настоящему, а не отправляют тот или иной культ ради самоуспокоения, сопричастности нынешнему мейнстриму или обретения искомой поддержки сильных мира сего?
Один мой знакомый долгое время держался за свою светскость. Потом он пришел и сказал мне: «Мой друг привел меня в Храм Христа Спасителя, и там я оказался рядом с такими-то (дальше назывались высшие тогдашние руководители). На меня нечто снизошло. Я понял, что Церетели — гений. А снизошедшее на меня — есть подлинное свидетельство божественного присутствия».
В России много церквей, чью красоту можно назвать неописуемой. И это не только храм Покрова на Нерли, который облюбовала наша интеллигенция и который действительно прекрасен. В Переславле-Залесском, например, есть маленькая церковь, которая пронизана такой красотой, которая несвойственна светским зданиям. Да мало ли еще таких церквей в России и мире? Но уж точно это не Храм Христа Спасителя.
Что же касается присутствия в этом храме тогдашних высочайших администраторов, то сопрягать такое присутствие с явленной тебе трансцендентностью как минимум очень странно. Наверное, все-таки чаще удается встретиться с такой трансцендентностью в каком-нибудь медвежьем углу, куда не вторгается столь энергично и настырно брутальное властное начало, которое по определению страшно далеко от чурающихся такой брутальности нездешних дуновений.
Так почему бы человеку, которого властная брутальность притягивает, как магнит, не отделить ее от сферы, к ней отношения не имеющей? И не подышать столь желанным для него властным воздухом в каких-нибудь высоких присутственных местах, не имеющих отношения к отправлению тех или иных культов? Или даже в очень привилегированных и крайне дорогих ресторанах, местах светского отдыха и так далее.
Тот же Толстой, например, искал соприкосновения с трансцендентностью в гуще народной жизни, в особом общении с природой, в простом крестьянском труде. И имея все возможности для погружения во властную и околовластную среду, чурался этой среды именно по причине ее антижизненности, предельной регламентированности, механистичности, лицемерия и так далее.
И только ли Толстой? Разве Достоевский и Чехов, столь разные во всем остальном, не чурались одинаково всего того, что в их эпоху именовалось светской, то есть социально высокостатусной жизнью? И разве чуя исходящий именно от нее мертвый дух, они не чурались этого?
Разве не написал Александр Блок нижеследующие строки:
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...
Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабрезный анекдот...
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор...
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.
В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем — изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка — дура и супруг — дурак.
Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушон...
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!
Лишь у колонны встретится очами
С подругою — она, как он, мертва.
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:
«Усталый друг, мне странно в этом зале». —
«Усталый друг, могила холодна». —
«Уж полночь». — «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена...»
А там — NN уж ищет взором страстным
Его, его — с волнением в крови...
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви...
Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова...
И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он...
«Как он умен! Как он в меня влюблен!»
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
Я мог бы привести еще много художественных произведений, в которых говорится о вторжении мертвого в живое, об экспансии, которая осуществляется смертью для того, чтобы, умаляя живую жизнь, развивать самое себя именно внутри живого. И я вовсе не хочу сказать, что только Россия — ее писатели, поэты, музыканты, художники, ее мыслители, ее провидцы и мистики — проявляла чуткость в вопросе о соотношении жизни и смерти.
А как же Дюрер? Или Шекспир? Или Шиллер? Или Гёте? Или Данте с Петраркой? А как же Ибсен, Ницше, Шопенгауэр, Вагнер? А как же немецкие философы, такие как Шеллинг? А как же тот же Бергман с его фильмами на данную тему?

Кто-то скажет, что русское искусство — это блистательное эпигонство, подражающее лучшим западным образцам. Разве сам Пушкин не писал о том, что он подражал Шекспиру, сочиняя своего «Бориса Годунова»? И разве не с Запада пришел футуризм, чьим гениальным выразителем стал Владимир Маяковский, написавший «ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь»?
Так есть ли она, эта альтернативность русской миропроектной воли? Притом что можно говорить только о русскости в том ее понимании, которое свойственно Западу, внерационально воспринимающему русскую стратегическую специфичность и называющему русскими всех, кто этой специфичности сопричастен.
Недавно я выступал на фестивале «Золотой витязь», где мне оппонировала гостья из Болгарии, которую ведущий представил как приехавшую аж прямо с Каннского фестиваля, а также как искусствоведа из Сорбонны. Гостья эта заявила, что никакого альтернативного Запада нет вообще. И что есть только один Запад, который высоко оценивает Достоевского, Толстого, Чехова, Чайковского и так далее как часть западной культуры.
«Да-да, — яростно говорила гостья, — часть нашей западной культуры. А не часть какого-то там несуществующего альтернативного Запада». Ну что на это ответить? Процитировать Александра Блока, этого рафинированного, насквозь пропитанного западными — стандартными и нестандартными (средневеково-трубадурскими, например) — веяниями странного антизападника? Его стихотворение «На поле Куликовом»:
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
Или его «Скифов»? Или его «Возмездие»? Или цветаевскую поэму «Крысолов»?
Стар и давен город Гаммельн,
Словом скромен, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн — славный городок!
Цитировать «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского? Или «Горе от ума» Грибоедова? Или позднего Чаадаева? Или Салтыкова-Щедрина, который в своем письме Некрасову так описывает свое пребывание в Ницце: «И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови. <...> В мае непременно в Россию приеду. Лучше в Витеневе. Ежели умирать, так там».
Салтыков-Щедрин принадлежал к тому русскому дворянству, для которого роскошь, экипажи и платья дам — это сугубая норма жизни. Он не о самих этих платьях и экипажах говорит: их он навидался в Петербурге и российской провинции. Он говорит о беспредельном блаженстве «сукиных детей», чьи виллы, может быть, и поскромнее русских княжеских особняков. Но вот этого блаженства беспредельного в русских княжеских домах нет или, точнее, его намного меньше, чем в западных виллах. И блаженство это очень пошлое. Притом что пошлость, конечно, сродни смерти. И, конечно же, это буржуазное блаженство, на сто процентов буржуазное. Это то блаженство, о котором Ибсен говорит в своей пьесе «Пер Гюнт». Споря с главным троллем, которого ему представляют как Доврского старца, Пер Гюнт настаивает на том, что между троллями и людьми фактически нет разницы. Доврский старец спрашивает Пера Гюнта: «Скажи, от людишек чем разнится тролль?»
Пер Гюнт отвечает:
Да ровно ничем. Это всё ведь одно:
Здесь маленький щиплет, а крупный грызет,
Но это вошло и у нас в обиход.
Доврский старец, возражая на это, говорит:
Твое наблюденье довольно умно,
Но день — это день, а ночь — это ночь,
И сделаны мы не совсем уж точь-в-точь.
Послушай меня да раскинь-ка умишком:
Под солнцем все люди объяты одним,
Твердят: «Человек, будь собой самим!»
У нас же в горах говорит любой:
«Тролль, упивайся самим собой!»
Придворный тролль обращается к Перу Гюнту, тестируя его реакцию: «Понял, в чем тонкость?»
Пер Гюнт уклоняется от ответа. Тогда Доврский старец разъясняет всё Перу Гюнту уже с предельной откровенностью: «Упивайся! Что за чудесное слово! Тверди его снова, и снова, и снова».
Сопоставим это с тем, что пишет Некрасову Салтыков-Щедрин. Он ведь говорит о беспредельном блаженстве «сукиных детей», а не о роскоши костюмов, экипажей и домов. Салтыков-Щедрин понимает, что это беспредельное блаженство превращает человека в сукиного сына. И что таинство такого превращения каким-то образом связано с чем-то, что исходит от Запада.
Предлагаю обратить внимание на то, что подобное блаженство сукиных сынов, о котором пишет Салтыков-Щедрин, буквально тождественно тому блаженству, к которому тролль призывает ибсеновского героя. Тролль ведь говорит о том, что надо именно упиваться и именно собой. То есть что надо состоять полностью из одного только беспредельного блаженства, оно же — упивание собой. И что способность так упиваться собой является отличием тролля от человека, то есть мертвого от живого.
Об этом же самом говорят процитированные мною русские мыслители, художники и религиозные деятели, всерьез обеспокоенные неумолимостью пугающих их тенденций, насылаемых на мир Западом. Эти тенденции напрямую могут не называться, они могут даже до конца не осознаваться, но они улавливаются с особой русской чуткостью, которую от западной чуткости отличает особое волевое русское «не хочу».
Приведу еще пару примеров этого «не хочу», которым пронизано творчество очень и очень многих русских, улавливающих идущую с Запада скверну.
Вот четыре стихотворения Блока. Первое из них — наиболее известное и наиболее короткое.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
В двух других стихотворениях та же тема получает дополнительное развитие. В аптеке, которая является для поэта зримым вторжением смерти в живую жизнь, неким художественно-убедительным аналогом пошлых современных инопланетных кораблей, вторгающихся в земной мир, появляются конкретные инопланетяне, осуществляющие вторжение.
Пустая улица. Один огонь в окне.
Еврей-аптекарь охает во сне.
А перед шкапом с надписью Venena,
Хозяйственно согнув скрипучие колена,
Скелет, до глаз закутанный плащом,
Чего-то ищет, скалясь черным ртом...
Нашел... Но ненароком чем-то звякнул,
И череп повернул... Аптекарь крякнул,
Привстал — и на другой свалился бок...
А гость меж тем — заветный пузырек
Сует из-под плаща двум женщинам безносым
На улице, под фонарем белесым.
Эти вторженцы — оживший скелет, безносые женщины — являются всего лишь посланцами чего-то большего. Если аптека — это вторгшийся корабль, а оживший скелет и безносые женщины — обитатели корабля, то в следующем стихотворении речь идет уже о том начале, которое предписывает вторжение и кораблю, и его обитателям.
Старый, старый сон. Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там — лишь черная вода,
Там — забвенье навсегда.
Тень скользит из-за угла,
К ней другая подползла.
Плащ распахнут, грудь бела,
Алый цвет в петлице фрака.
Тень вторая — стройный латник,
Иль невеста от венца?
Шлем и перья. Нет лица.
Неподвижность мертвеца.
В воротах гремит звонок,
Глухо щелкает замок.
Переходят за порог
Проститутка и развратник...
Воет ветер леденящий,
Пусто, тихо и темно.
Наверху горит окно.
Всё равно.
Как свинец, черна вода.
В ней забвенье навсегда.
Третий призрак. Ты куда,
Ты, из тени в тень скользящий?
Тени — это вторженцы. А черная вода, в которой «забвенье навсегда», — это нечто большее, чем пространство вторжения и населяющие пространство вторженцы. Это уже сама воля к вторжению, она же — воля к смерти. В следующем стихотворении всё вместе — и вторгающийся корабль (аптека), и вторженцы (оживший скелет, безносые женщины и так далее) — начинает обретать уже не только трансцендентальный, но и социальный характер. Конкретно — связываться с тем духом, который шлет в мир всю эту разнообразную инфернальность. Дух этот — абсолютно конкретен. Имя его — буржуазность. В стихотворении об этом говорится с почти публицистической внятностью.
Вновь богатый зол и рад,
Вновь унижен бедный.
С кровель каменных громад
Смотрит месяц бледный,
Насылает тишину,
Оттеняет крутизну
Каменных отвесов,
Черноту навесов...
Всё бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.
Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны.
Он — с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.
Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается.
То есть буржуазный дух в конечном счете совпадает с духом мертвым. Вторжение инфернальной мертвечины в конечном счете оказывается порождением определенного вполне здешнего конкретного вторжения — вторжения буржуазии и буржуазности в не приемлющий ее русский мир, осознающий, что Запад эту буржуазию и буржуазность уже принял, что он уже радостно перед этим капитулировал. И что поэтому возможно только сражение с тьмой, которую надо называть одновременно ночной и зарубежной, а также тьмой этой самой буржуазности. Как сражаться — это другое дело. Но не сражаться нельзя. Потому что буржуазная пошлость уже пришла. И принять ее нельзя, не превратившись в живого мертвеца. А что значит не принять ее — непонятно.
Для того же Толстого такое неприятие принимает самые причудливые формы. В его пьесе «Власть тьмы» герой цепляется не за крестьянский быт, а за особую цыганскую стихию, которая для героя одна лишь противостоит миру русских пошлых буржуазных троллей, этих посланцев тьмы.
Заметьте, я ведь не почвенников цитирую, точнее не тех почвенников, которые обусловлены в своих оценках своей мировоззренческой установкой. Я цитирую тех мыслителей и художников, которые улавливают определенные фундаментальные сигналы, идущие с Запада, и реагируют на них.
И ведь понятно, что улавливают эти мыслители и художники пришествие смерти, напялившей на себя маску буржуазии и буржуазности. Что на это пришествие по-разному реагируют все, кого я процитировал. И что именно этому пришествию — пошлому, вульгарному, почти балаганному и одновременно мертвенно беспощадному — радуются Булат Окуджава и другие наши так называемые перестройщики, для которых вторжение смерти желанно и потому, что оно уничтожает ненавидимый коммунизм, и потому, что оно сулит желанный комфорт. Тот комфорт протестантского рая, про который Николай Гумилев с ненавистью писал:
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник и мытарь
И блудница крикнут: вставай!
Гумилев понимает, что протестантский прибранный рай — это всего лишь отсек инферно, занятый довольными троллями, которые всё время упоенно фотографируются.
Окуджава это тоже понимает. Но Гумилев это проклинает, а Окуджава прославляет. Проклинают это и Достоевский, и Толстой, и Маяковский, и Ибсен, и Блок. Но все это проклинают по-разному. Вопрос в том, сколько воли содержится в этих проклятьях. У Ибсена ее уже почти нет. У Блока, Достоевского, Толстого и Маяковского ее достаточно много.
У Эриха Фромма этой воли нет. Ему очень хочется, чтобы буржуазная смерть не вторглась в живую жизнь. Он очень боится такого вторжения и проявляет безумную чуткость ко всему антивторженческому. Но это антивторженческое для Фромма неприемлемо в случае, если оно носит по-настоящему воинский характер. И для Толстого оно неприемлемо в этом случае. Жизнь должна утверждать себя, но при этом воли к жизни не должно быть. И жестко, кроваво и жестоко защищать себя от смерти жизнь не имеет права. Поэтому Фромм, с одной стороны, невероятно чуток к Марксовой жизнеутвердительности, а с другой стороны — пугливо пошл, коль скоро в этой жизнеутвердительности улавливается волевое, боевое начало. Фромм чурается его, как черт ладана. И в этом сходство Фромма с Толстым.
Толстой, Достоевский, Чехов, Блок, Маяковский, Фромм, Ибсен и многие другие — наполовину пророки, а наполовину интеллигенты. Интеллигент чурается воли, она всегда воспринимается интеллигентом как проявление чего-то совсем-совсем чужого и неприятного.
Даже когда такие интеллигенты, как Брехт, восхищаются волей (а Брехт восхищался Сталиным), в этом восхищении есть что-то от оторопи, а значит, и от своеобразного парадоксального восхищенного отторжения. В каждом из таких мыслителей и художников соседствуют две субличности: жизнеутверждающий пророк и капитулянтски тоскующий интеллигент.
А вот Маркс и Ленин — другое дело. Ленин одновременно тянется к интеллигенции и отвергает ее. Почему? Да потому, что он ее в себе ощущает. И ощущает именно как грех безволия.
Маркс тоньше и мягче Ленина, но родственен ему и по сущностной человеческой природе, и по типу метафизической направленности (еще раз оговорю здесь, что метафизика — это не религия, а совокупность мыслей и чувств, связанных с непримиримой борьбой между жизнью и смертью).
Почему Маркс тоньше и мягче Ленина? Отчасти потому, что он — настоящий представитель Запада, отвергающий и принимающий одновременно всё то, что именуется русским отторжением буржуазности. Отчасти потому, что он не находится у власти. Такое отличие Маркса от Ленина, отличие не сущностное, а интонационное и стилевое, позволяет интеллигентам типа Фромма восхищаться Марксовой жизнеутвердительностью и не замечать волевого характера учения Маркса.
Порой это рождает очень тонкие оценки марксизма. А порой извращает всё его содержание. Вот оценка Фромма, которая мне представляется очень точной, очень тонкой и очень верной. В своей работе «Иметь или быть?» Фромм пишет: «Труд, по Марксу, символизирует человеческую деятельность, а человеческая деятельность есть жизнь. Напротив, капитал, с точки зрения Маркса, — это накопленное, прошлое и в конечном счете мертвое. Нельзя полностью понять, какой эмоциональный заряд для Маркса имела борьба между трудом и капиталом, если не принять во внимание, что для него это была борьба между жизнью и смертью, борьба настоящего с прошлым, борьба людей и вещей, борьба бытия и обладания. Для Маркса вопрос стоял так: «Кто должен править кем? Должно ли живое властвовать над мертвым или мертвое над живым?» Социализм для него олицетворял общество, в котором живое одерживает победу над мертвым».
Фромм как пророк и мыслитель понимает это. А Фромм как интеллигент сразу же начинает лепетать про то, что в подобной борьбе, которая во всех смыслах слова является борьбой не на жизнь, а на смерть, нет места подлинно воинскому духу, яростному организованному сопротивлению и прочему. Всё это яростное должно быть отброшено. Во имя чего и с каким результатом?
(Продолжение следует.)