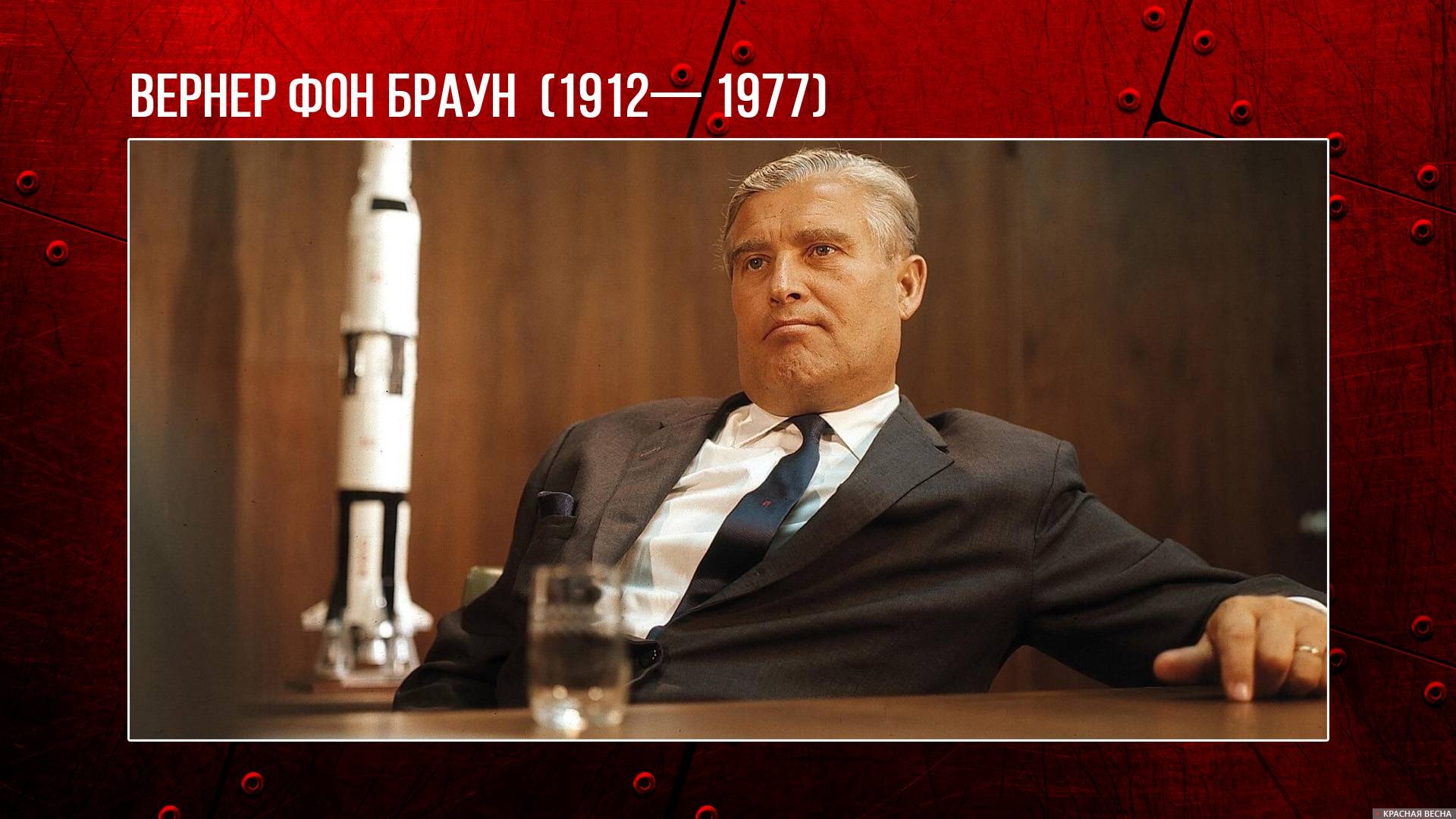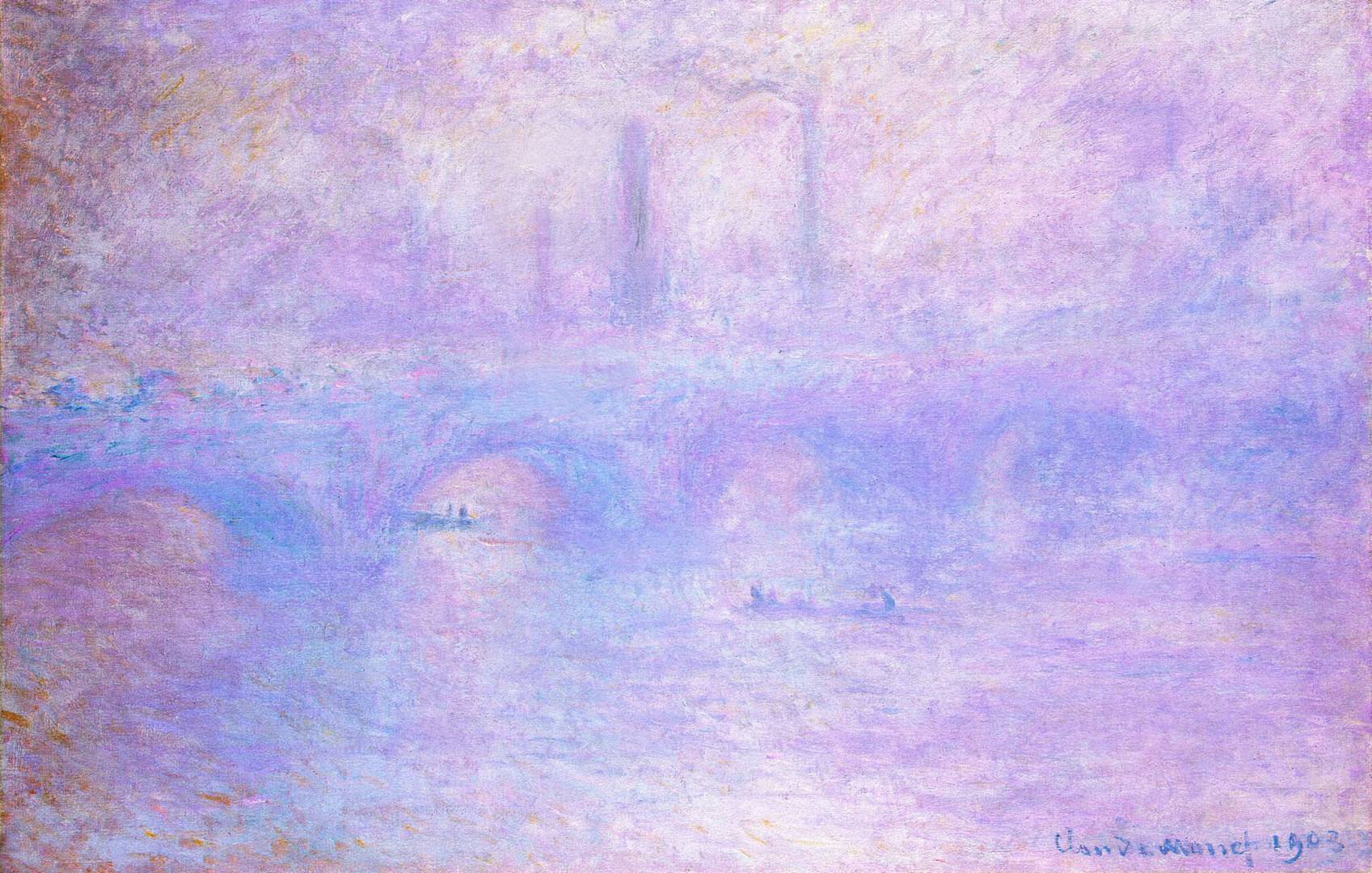Судьба гуманизма в XXI столетии

Неожиданно мне на память пришел один советский анекдот. Пьяный папаша валяется посреди комнаты, а малыш бегает вокруг отца и ноет: «Пап, почини велосипед, ну пап, почини велосипед!» Пьяный отец отвечает сыну: «Вот сейчас брошу всё и займусь твоим велосипедом!»
Этот анекдот понадобился мне как очередная «разъясняющая метафора». В самом деле, что я имею в виду под пониманием степени христианской неканоничности тамплиеров? Притом что речь идет о наличии (или отсутствии) очень глубокой христианской неканоничности, в ту эпоху именуемой еретичностью. А также о том, что эта еретичность не просто существовала у тамплиеров наряду с прочим, на неких мировоззренческих задворках, а была для них фундаментальным жизненным основанием, фундаментальным смыслом жизни и деятельности.
Во-первых, для того чтобы понять всё, что связано с такой еретичностью, она должна иметь место в реальности. А это вовсе не гарантировано.
А, во-вторых, даже если она есть, то что нужно для понимания ее характера, степени ее зловещей и далекоидущей негуманистичности, степени влияния этой негуманистичности (если таковая и впрямь имела место) на дальнейшее развитие человечества, в существенной степени вышедшего за рамки определенных религиозных догм, забывшего со временем о каких-то там тамплиерах, превратившего этих тамплиеров в модные конспирологические развлечения необязательного характера?
Возможно ли такое понимание вообще? Нужно ли оно для решения задачи данного исследования? Какой ценой оно может быть достигнуто? И стоит ли оно тех усилий, которые необходимы для этого достижения?
Может ли возникнуть такое понимание даже после прочтения не двух-трех более или менее достоверных текстов, сочиненных людьми, жившими в совершенно другую эпоху, а после неизмеримо более глубокого ознакомления с имеющейся достоверной информацией? Притом что степень достоверности этой информации всегда находится под вопросом — а как иначе?
Если тексты, в которых содержится эта информация, написаны очевидцами или людьми, не отделенными от тогдашних событий пропастью во много сотен лет, то эти тексты носят на себе отпечаток средневековой предвзятости, средневековой зашоренности, средневековой оглядки на те опасности, которые проистекают из обвинения в еретичестве.
А если речь идет о более поздних текстах, то их авторы так же страшно далеки от всего, что происходило тогда, как и мы с вами. И тоже много чем заданы. Академическим позитивизмом, например. Или сопричастностью определенной конспирологической школе.
Но предположим, что мы прочтем всё, написанное по поводу христианской неканоничности тамплиеров. Что мы разбракуем каким-то образом всю полученную информацию. Что мы сумеем разобраться в том, какие показания на допросах, данные тамплиерами, порождены свирепыми инквизиторскими пытками и содержат в себе только напраслину, а какие содержат нечто, заслуживающее внимание. Ведь, в конце концов, удалось с невероятными усилиями разобраться в том, когда на невинных средневековых женщин возводили напраслину, обвиняя их в ведьмовстве, а когда они реально участвовали в конкретных ведьмовских шабашах — как относительно невинных, так и связанных с конкретными человеческими жертвоприношениями.
Предположим, что мы разберемся с показаниями тамплиеров, определим степень достоверности средневековых хроник, сумеем отделить в поздней информации о тамплиерах зерна истины от тех или иных плевел той или иной предвзятости.
Предположим, что у нас хватит сил на то, чтобы, осуществив всю эту работу, не потерять способность к системному обобщению полученных сведений. И что это системное обобщение окажется свободным от той скрытой идеологичности, которая вообще-то свойственна большинству подобных обобщений.
Значит ли это, что мы сумели понять степень христианской неканоничности тамплиеров?
Я надеюсь, что читатель понимает невозможность осуществления всех этих предположений на практике. И, понимая это, верно оценивает степень полемической риторичности высказанных мною выше предположений. И что не зря я вспомнил о старом советском анекдоте про «брошу всё и займусь твоим велосипедом».
Лично я ну уж никак не собираюсь бросить всё и заняться этими самыми тамплиерами. И я не предлагаю осуществить этот интеллектуальный подвиг кому-либо из представителей молодого поколения, ориентирующихся на мои попытки осмысления судьбы гуманизма в XXI столетии.
Просто я провожу так называемый мысленный эксперимент и задаюсь вопросом о возможности настоящего понимания этой самой христианской неканоничности тамплиеров, то есть настоящего содержания якобы охватившей их умы ереси — даже в случае выполнения фактически невыполнимых условий, которые я описал выше.
Так вот, проведя этот мысленный эксперимент, я прихожу к выводу, что даже при выполнении всех невыполнимых условий искомое понимание всё равно невозможно.
Значит ли это, что оно вообще невозможно? И зачем тогда вообще разминать сомнительную тамплиерскую тему?
В том-то и дело, что я считаю возможным иное, в каком-то смысле неизмеримо более глубокое и достоверное понимание еретичности тамплиеров. Притом что это иное понимание будет опираться не на бесконечную и постоянно обнаруживаемую свою недостаточную информированность по поводу их сомнительной еретичности, а на способность вживаться в образ.
Эта способность всегда расценивалась позитивистскими историками как антинаучное фантазерство. Пусть, мол, этим самым вживанием в образ занимаются актеры, играя античные или иные трагедии. Или писатели типа Вальтера Скотта, сочиняющие свои исторические романы. А настоящим ученым не пристало вживаться в какие-то там образы, принося объективность на алтарь подобного вживания в качестве непомерной и почти что комичной жертвы.
Но на самом деле нет ни одного крупного историка, который пренебрегал бы подобным вживанием в образ при проведении любого масштабного исторического исследования. Со времен Плутарха все историки только этим и занимались — каждый на свой манер.
Разбирая проблему исторического исследовательского метода, я постоянно обращаю внимание тех, кого интересуют мои исследования, на то, что вживание в образ носит для настоящего историка фактически неотменяемый характер. И тут что Карамзин, что Тарле.
Есть, к сожалению, одно обстоятельство, в силу которого вживание в образ не всегда осуществляется в полной мере. Про это обстоятельство шекспировский Гамлет говорил Розенкранцу и Гильденстерну. Я, мол, помешан только в норд-норд-вест, а при южном ветре могу отличить сокола от цапли.
Норд-норд-вест для историка — это политическая тенденция его эпохи. Если такая тенденция сильно выпирает, как выпирала она в эпоху Карамзина, то вживание в образ затруднено. А если эта тенденция в меньшей степени правит бал (для Тарле в вопросе об эпохе Наполеона она явно не носила характер этого самого политического норд-норд-веста), то вживание в образ разворачивается в полной мере и в полном масштабе. И тогда историк масштаба Тарле сначала вживается в образ Наполеона и осуждает Фуше и Талейрана как изменников, потом вживается в образ Талейрана и осуждает Фуше, а потом вживается в образ Фуше и осуждает Талейрана. И всё это оказывается вполне сочетаемым с академической исследовательской направленностью.
Ну так давайте признаем, что вживание в образ не является отказом от той объективности, которая только и возможна в гуманитарной сфере, частью которой является историческая наука. И что только на основе такого вживания в образ можно как-то разобраться в феномене еретичности тамплиеров. Причем разобраться, не утонув в обилии разнокачественной информации, заведомо имеющей ту или иную тенденциозность.
Признаем также, что историческая наука на современном этапе ее развития уже признала необходимость отказа от проекции на людей другой эпохи собственных мотивов исследователя в виде мотивов универсальных, то есть присущих любой эпохе. Что этот отказ дался с большим трудом. Что он потребовал создания целых научных направлений. И что вытекающая из этого отказа необходимость мыслить категориями исследуемой эпохи, жить ее верованиями, терзаться ее страстями теперь является не позорным отходом от научности, а интегрированностью в новую вполне научную методологию, использование которой очень сильно продвинуло вперед историческую науку.
Признав же всё это, построим модель нужного нам вживания в исследуемую тамплиерскую еретичность. Модель этого вживания такова.
1) Вы живете не в XXI веке, а в Средние века.
2) Вы являетесь не обычным средневековым сильно верующим христианином, а христианином особо страстным, страстным до исступления, то есть живущим этой самой христианской верой так, как ею, прошу прощения, и не в обиду им будет сказано, уже не могут жить даже самые верующие христиане XXI столетия.
3) Вы живете только этой верой. То есть вы ориентированы не на жизненное преуспевание, а только на спасение души, только на снискание благодати при жизни и после смерти. Вы только этим живете, понимаете? Представьте себе, что это так. И что такая ориентация сочетается с неистовой исступленной христианской верой. Это так трудно себе представить? Полно!
Каждый раз, когда ты, человек, живущий в XXI столетии, входишь в крупный готический средневековый собор, тебе становится не по себе при мысли о том, что этот ныне пустой собор, в котором ты любуешься шедеврами зодчества, скульптуры и живописи, был забит до отказа людьми, страстно внимавшими проповеди священника, ощущавшими реальное снисхождение на них потусторонней благодати, впадавшими в коллективный экстаз и посвящавшими всю свою недолгую жизнь завоеванию или отстаиванию Гроба Господня в далеком и одновременно бесконечно близком Иерусалиме.
4) Вы являетесь не просто особо верующим, но и особо незаурядным человеком. Разве Игнатий Лойола, создатель Ордена Иезуитов, живший в более позднюю эпоху, не был таким человеком? Не был бы он им — не было бы ни ордена как такового, ни тем более тех орденских деяний, которые сумели сильно изменить тогдашний мировоззренческий тренд. При том, что этот тренд был достаточно мощным и именовался Реформацией. А глядь, возникла контрреформация, да причем достаточно успешная. Благодаря чему возникла? Благодаря Лойоле. И тем немногим людям, которых он собрал вокруг себя. Какими должны были быть для этого люди? Они должны были быть не только особо верующими, но и особо незаурядными.
Но в случае тамплиеров всё обстоит еще более впечатляюще. Какие-то немногочисленные небогатые рыцари вдруг создают — по той эпохе более чем стремительно — нечто суперкрупное, тревожащее этой крупностью все ветви европейской тогдашней власти. Тут нужно не только особо веровать. Тут нужна еще и эта незаурядность. Причем, опять-таки, особая.
То есть нужно сочетание абсолютной устремленности в выси поднебесные с невероятной жизненной цепкостью, масштабным стратегическим мышлением и абсолютным практицизмом. В конце концов, разве не это впечатляет в тех же большевиках? А также в их нацистских противниках?
5) Вы являетесь человеком той эпохи, в которую традиция значит бесконечно больше, чем веление вашего времени. И вы лично, и все, кто находится рядом с вами, сочетаете исступленность веры со столь же исступленной верностью традиции вообще и в особенности всего, что связано с традицией в вопросе о вере.
6) Во имя снискания благодати вы уходите из мира в монашескую, причем достаточно глубокую, схиму. Если до такого ухода у вас еще могли быть мирские помыслы наряду с исступленным верованием и жаждой обретения благодати, то после этого ухода всё сводится к снисканию благодати в условиях монастырской схимы. А любой мирской помысел становится предельно греховным, то есть отнимающим у вас то, что вам дороже всего, — шанс на эту самую благодать.
7) Вы являетесь монахом, причем не абы каким, а исступленно верующим и исступленно аскетичным в силу этой веры и принятого монашеского удела. Вы, будучи человеком средневековой эпохи, верны монашеской традиции, в рамках которой орденское монашеское рыцарство — это невероятная ересь. А что такое для вас ересь? Это отказ от всего желанного — вместо снискания благодати вы в качестве еретика попадаете в то, чего ужасно страшитесь, — в геенну огненную.
8) Никакой Бернард Клервоский, сколь бы авторитетен он ни был, и уж тем более никакой папа римский не могут быть для вас авторитетнее традиции. Для того чтобы вы отказались от христианской традиции, согласно которой монах не может носить оружие, и стали супермилитаризованным монахом, то бишь орденским рыцарем, нужно ваше впадение в совершенно особое состояние. Которое в чем-то сродни обретению новой веры. Ведь впадали же в это состояние первохристиане да и вообще любые зачинатели новой веры? Вы, конечно, не являетесь подобным зачинателем новой веры, но вы сродни подобным зачинателям. Потому что в противном случае вы не разорвете с тысячелетней традицией, страшась погибели души. И никакое папское благословение для вас тут не будет абсолютным обстоятельством. Потому что и папы, как вы знаете, не безгрешны. А вам нужно не какое-то добро от этих самых пап или крупных христианских авторитетов, вам душу надо спасти и благодать снискать. А это — ваше личное дело. И ничем другим вы не заняты. Поэтому, для того чтобы соучаствовать в ломке традиции, нужны не внешние отмашки, а глубокая внутренняя потребность, сочетаемая, конечно же, с такими отмашками, значение которых нельзя ни приуменьшать, ни преувеличивать.
Так что же это за внутренняя потребность? Возможно ли ее возникновение только в силу нарастающего противостояния Рима и Константинополя? Могло ли породить эту внутреннюю потребность исламское ожесточение против христиан, порожденное покорением Ближнего Востока сельджуками, которые вели себя по отношению к христианам совсем не так, как арабы, контролировавшие Иерусалим в досельджукский период?
Могло ли сыграть решающую роль в формировании этой внутренней потребности ослабление Византии и новое понимание Западом своего всемирно-исторического значения, существовавшего в эпоху Древнего Рима, позорно утерянного после падения Древнего Рима, мучительно восстанавливавшегося на христианской основе в течение постримского полудикарского существования, лишь слегка смягчаемого достаточно сомнительной христианизацией?
Или же решающее значение сыграло религиозное низовое движение, низовые крестоносные умонастроения, порожденные проповедями таких кумиров простых людей, как отшельник Петр Пустынник?
Или же взыграло церковное самолюбие, постоянно ущемляемое грабительской деятельностью феодалов, порожденное воинской беззащитностью монастырей?
Разумеется, все выше перечисленные факторы воздействовали на новую милитаризацию христианства, осуществляемую, в том числе, и через создание немыслимых ранее военных монашеских орденов. Но и каждый из этих факторов, и их совокупное кумулятивное воздействие не могут полностью объяснить такого масштабного нововведения, каким было обсуждаемое нами тамплиерство.
Франко Кардини (родился в 1940 году) — известный итальянский историк, специализирующийся на изучении Средневековья. Его конкретная специализация — историк Крестовых походов. Здесь я не собираюсь ни обсуждать идеологическую направленность Кардини, построившего достаточно плотные отношения с новыми правыми вообще и Жаном Тириаром в особенности, ни степень влияния этих глубоко мне чуждых взглядов данного историка на его профессиональную деятельность. Я всего лишь обращаю внимание читателя на то, что именно идеологическая специфика данного историка позволяет ему уклониться в сторону от обычного позитивизма. А без такого уклонения от позитивизма нельзя даже просто задаться вопросом о природе аномальной для предыдущего христианства рыцарской монашеской деятельности. Потому что для позитивиста сам вопрос о природе той или иной страсти, способной порождать фундаментальные инновации в традиционном обществе, в каком-то смысле почти что неприличен. Причем тут страсть, спросит позитивист? Почему она должна на что-то влиять?
Между тем как только мы берем на вооружение концепцию вживания в образ, страсть становится чуть ли не стержнем нашей методологии.
Что же касается Кардини, то он всячески пытается уравновесить свою новоправую сомнительную идеологичность научным объективизмом. Так что отмахиваться от его концепции рыцарства, ссылаясь на очевидную причастность Кардини к идеологическим причудам в духе так называемых новых правых, вряд ли стоит. Тем более что новые правые средневековым рыцарством занимались с особым рвением, и отрицать их компетенцию в этом вопросе только по причине глубокого неприятия их идеологической ориентации вряд ли целесообразно. Я лично в подобных случаях стремлюсь отделить зерна от плевел, а компетенцию — от глубокой идеологической чуждости. При том, что для меня всё, связанное с новыми правыми, является идеологически глубочайшим образом неприемлемым. Но это же не значит, что я выкину на помойку работы Мирча Элиаде о шаманизме, работы того же Юнга или даже Юлиуса Эволы?!
У всех этих исследователей определенным образом сочетаются компетенция и предвзятость. Все они очень сильно сфокусированы на своей — повторяю, категорически для меня чуждой — идеологии. Но это не означает, что их исследования всегда и во всем недоброкачественны или лишены научной оригинальности. Всё намного сложнее. И никакого продвижения в выбранном для нас направлении нет и не может быть без внимательно-критического отношения к творчеству подобных исследователей.
Мы ведь отнеслись с предельным вниманием ко вполне юнгианскому подходу, который реализован Нойманном. И правильно сделали. Потому что полностью отвергать исследования Юнга и тем более исследования представителей его школы так же глупо, как и полностью доверять всем юнговским, глумящимся над такой доверчивостью, скрыто религиозным концепциям.
Кроме того, дело вовсе не в базовых идеях Кардини. Дело в самом методологическом принципе, который никакого отношения к новым правым не имеет и является идеологически сугубо нейтральным. Этот принцип, справедливость которого я отстаиваю на протяжении многих лет, состоит в том, что (внимание!)
В традиционном обществе любая масштабная мировоззренческая инновация возможна только с опорой на традицию еще более древнюю, нежели та, которая этой инновацией проблематизируется.
Я был бы рад сослаться на кого-то, кроме самого себя и своих соратников, но вынужден признать, что данный для меня безусловный принцип последовательно реализован в исследовательской практике той группы, которой я руковожу на протяжении последней четверти века.
Впервые мы предложили такой исследовательский подход к конкретным проблемам сравнительного религиоведения в 1994 году на конференции «Социокультурная экспансия и безопасность России». Мы никогда не стремились отстаивать какое-либо наше методологическое первородство как в этом, так и в других вопросах. Но если нам скажут, что кроме нас никто не отстаивает и не проводит в жизнь тот принцип, который я только что сформулировал, то мы скажем, что для нас это не является основанием для отказа от применения данного принципа.
Что конкретно порождает его применение в сфере сравнительного религиоведения?
Оно порождает рассмотрение любой религиозной эзотерики как более или менее явное проникновение в определенную религиозную традицию того, что можно называть предшествующей религиозной традицией, отвергаемой в рамках новой религиозной экзотерики и сохраняемой именно в эзотерике.
Что такое с этой точки зрения, например, тантрический буддизм? Это союз новой буддистской традиции, воюющей с индуизмом именно на основе своей новизны, с традицией более древней, чем индуизм, и оказавшейся кооптированной в индуизм на правах младшего ущемляемого брата. Мы подробно исследовали в Индии то, как именно возникал подобный союз новизны и архаики на юге, то есть там, где собственно арийский индуизм всегда был вынужден строить те или иные отношения с доиндуистской традицией.
Ровно такую же логику я предлагаю в качестве средства вживания в ошеломляюще новый для христианства монашеско-рыцарский образ. Не могло бы монашество, яростно отвергающее всё военное как неприемлемое для своей духовной среды, вдруг кооптировать в эту среду напряженную рыцарскую организацию, такую как тамплиеры, без той или иной эзотерической углубленности в дохристианскую, скрыто почитаемую традицию.
Кто такой для меня Франко Кардини? Это серьезный специалист, который, в отличие от меня, готов посвятить всю свою жизнь рыцарско-монашеской теме и приводящий доказательства правоты подобного подхода к проникновению рыцарской ереси в христианскую теологию. Да, Кардини чужд мне идеологически, и что с того? Зелинский или Нойманн мне ничуть не менее чужды в этом плане, но это не мешает моему использованию их профессиональной компетенции.
Ниже я познакомлю читателя с тем, как Кардини, всю свою жизнь посвятивший добросовестному исследованию средневековой рыцарской проблематики, выявляет дохристианскую основу крестоносного монашеско-христианского рыцарства. Для меня эта конкретика, предлагаемая Кардини, является подтверждением общей концепции, согласно которой в традиционном обществе всегда надо при введении любой новизны обосновывать эту новизну чем-то древним и очень авторитетным.
Вот что пишет по этому поводу Кардини в своей книге «Истоки средневекового рыцарства»: «Наше повествование начинается в безграничных просторах степей и пустынь, раскинувшихся между Дунаем и Желтой рекой в Китае. Представьте схематический план геоисторического развития Евразийского континента: четырем сторонам света соответствуют четыре неподвижных монолитных массива. В силу своеобразного оптического обмана они выглядят малодоступными и изолированными. Но это только на первый взгляд. Итак, на севере — непроходимая тайга и негостеприимные пространства ледяного безмолвия. На западе — Римская империя. На востоке — Китайская империя. На юге — Персия, связующее звено между двумя империями. По территории Персии проходят великие караванные пути, совершаются великие переселения народов, передаются религиозные культы. В центре этого исторического космоса огромная пустынная территория — ковыль, камень, песок. На этих просторах обитают гордые кочевые народы — охотники, пастухи, скотоводы, воины. Здесь царство лошади».
Именно это царство лошади является для Кардини той дохристианской традицией, которая проникает в рыцарскую христианскую эзотерику и с особой силой — по причине особой шоковой новизны, которую надо чем-то обосновывать, — в эзотерику монашеско-рыцарских христианских орденов.
Кочевники, сокрушившие Древний Рим и вобравшие в себя что-то, оставшись на его территории, скрыли под христианской оболочкой свою языческо-кочевническую суть. И вот эта суть эзотерически проросла сквозь христианскую оболочку в виде христианского рыцарства вообще и особенно — в виде монашеско-рыцарских орденов.
Если удастся вжиться — да, именно вжиться! — в суть подобного прорастания, то может быть раскрыто то тамплиерское еретичество, которое иными средствами не раскроешь. И которое является лишь одной из модификаций рыцарского еретичества, порождаемого конфликтом между оседлостью и кочевничеством.
(Продолжение следует.)