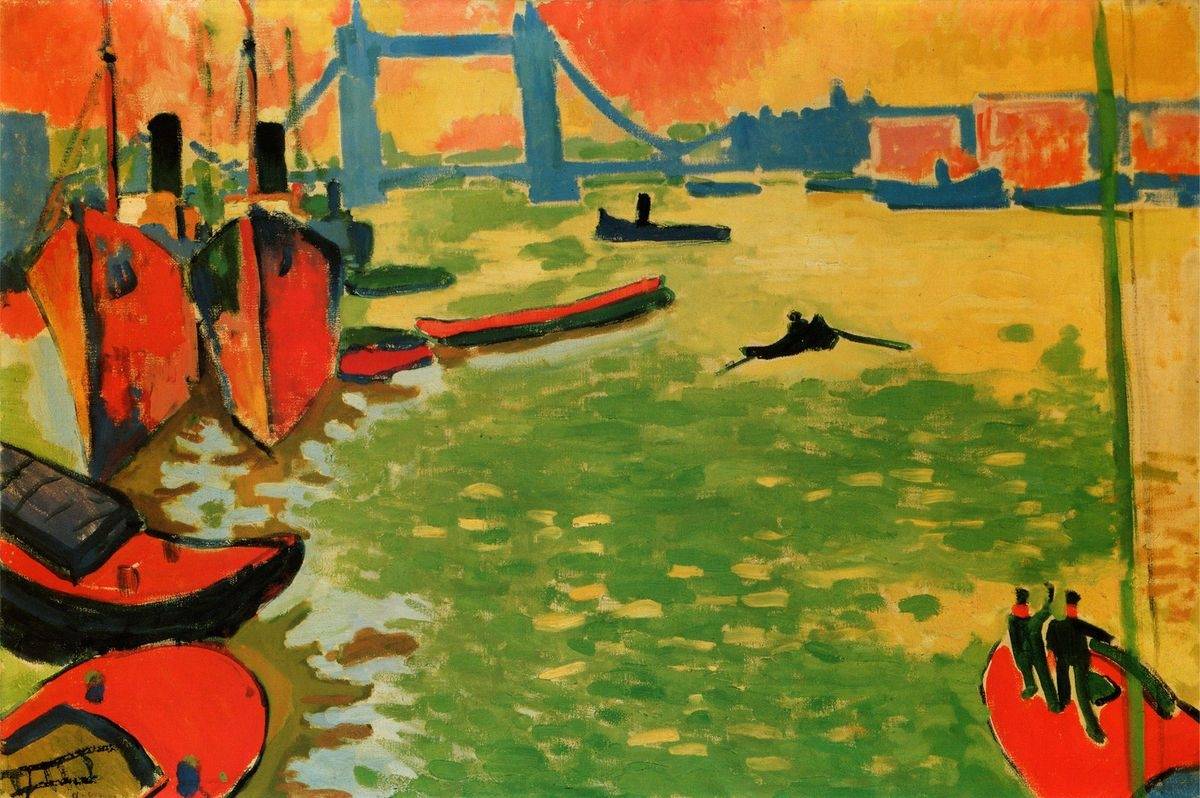Пушкин и Ницше

Если представить мир смыслов и идей как океан, то для принявшего постмодернистскую веру этот океан высох, а человечество имеет дело с лежащими на солнце камнями и ракушками. В современном мире противостоят друг другу сторонники этого постмодернистского убеждения и те, кто считает, что океан еще не высох и нырять в него все-таки можно.
Но есть гораздо более простая, мне кажется, проблема. Та, которую Маяковский в стихотворении о Пушкине обозначил как «навели хрестоматийный глянец», иначе говоря, затирание слов, означающих что-то фундаментально важное. Такими словами, на мой взгляд, сейчас и стали культура, мораль и ценности, которые должен создавать человеческий дух, по словам Сергея Кургиняна. Дух не создает, а чтобы культура, мораль и ценности были живыми, они должны как бы постоянно пересоздаваться.
Для меня лучший способ возвращения понятий к жизни, исправления имен, — обратиться к их истокам и почувствовать лично, больно, для чего они существуют.
От одной юной особы я пару недель назад услышал: «Бабушка учила наизусть письмо Татьяны к Онегину, мама учила, меня заставляли учить — и для чего? Чтобы у всех у нас, из поколения в поколение, все было так же, как у нее?» Конечно, для меня эта реакция лучше мертвого «взятия под козырек» школьной программы. В ней есть отношение, с которым можно полемизировать, переубеждать и так далее.
Я ответил ей: «Наверное, жизнь устроена так, что на всех в ней не хватает счастья. И такие книги, как «Евгений Онегин“ — единственный способ как-то подготовить нас к этому. Разве это плохо?»
Иначе говоря, в основании, в корне человеческой жизни лежит трагедия. Это давно обнаружили наши предки и стали делаться людьми все больше и все интенсивнее строить здание культуры, создавая ответ на нее.
Какова интонация автора в конце пушкинской поэмы:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
Это слова человека, присевшего на порог своего дома, разрушенного десятибалльным землетрясением. В этих словах — настоящая и совершенно лишенная экзальтации горечь и глубочайшее понимание устройства жизни, которое совсем не назовешь суховатым «мудрость».
Конечно, гениальность Пушкина в том, что он не говорит: «Примиритесь». И не говорит: «Войте от горя». И кстати, автор в «Евгении Онегине» — не то же самое, что сам поэт. Но к тому, что произошло с героями поэмы, вполне можно отнестись так же, как Ницше отнесся к кульминационному для него фрагменту оперы Вагнера «Тристан и Изольда»:
«К этим подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос: могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт „Тристана и Изольды“ без всякого пособия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души? Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира — то как гремящий поток, то как нежный, распыленный ручей, — да разве такой человек не был бы сокрушен в одно мгновение?»
Пушкин и Ницше — абсолютно разные вселенные. Ницше в своем «Рождении трагедии из духа музыки» транслирует чуждое великому русскому поэту и русской культуре стремление слиться с первоначалом бытия. Но то, насколько полно человек переживает трагическое устройство мира, определяет в нем многое. Духовную силу. Жизненную силу. Потому что чем от более настоящего ты отталкиваешься, тем более настоящий и твой отклик на это.
Любая настоящая религия ищет открытого взгляда на трагедию мира и полноту ее переживания. В противном случае это не религия, а фабрика обезболивающего.
В древности шаманы совершали специальные действия, делая возможным существование людей, ошеломленных смертью сородичей. Тысячелетия спустя тысячи верующих стекались в средневековые соборы, чтобы в едином порыве избыть «смертную болезнь», получить реальное избавление от нее и, в конце концов, почувствовать свое бессмертие. Я считаю, что и коммунизма без полноты переживания несовершенства мира тоже не может быть.
Можно перечитать письмо Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне. Конечно, Пушкин своим талантом просветляет боль, которой начинено человеческое бытие. Но плохо, если в результате этого «смягчения» читатель теряет вдруг остроту чувства. Поэтому лучше уж отнестись к Онегину и Татьяне как Ницше — к Тристану и Изольде, хотя текст немецкого философа и не помог замедлить европейский декаданс.
Европа вышла из греческой трагедии. Из духа трагедии, в конечном счете, возникло христианство и порожденная им культура. И если Восток принимает трагедию бытия, скорее, как должное, то Европа — обнажила ее, посчитала нужным в максимальной степени прочувствовать, а в какой-то степени и не смириться с ней.
В этом смысле Россия — это Европа. Русское язычество, которое никогда не вытравлялось из жизни и культуры до конца, и русское христианство разделяют европейское, родом из Древней Греции, трагическое чувство, обнаруживая далее свой собственный катарсис, свое разрешение трагедии бытия. И здесь что Аввакум, что Пушкин, что Достоевский, что Шукшин с Высоцким…
Европа смотрела на мировую трагедию по-разному. Это проявилось, кстати, в отношении к соответствующему жанру на сцене, который превозносили в Древней Греции, но отвергли в Византии. Впрочем, там она была заменена литургией.
Вслед за мировыми религиями коммунизм ищет полноценного, предельного ответа на трагедию бытия. У нее много имен. Но каждый человек в той или иной степени соприкасается с ней. В конце концов, в этом и состоит подлинное единство рода человеческого.
Для одних обжигание трагедией становится поводом возненавидеть жизнь и захотеть ее уничтожения, для других — дать предельно мощный творческий ответ. Но и те, и другие, определяя свое мировоззрение, отталкиваются от одного и того же чувства.
Что такое мещанство? Нежелание видеть трагедию бытия и давать на нее ответ.
Пронизывающее бытие горе, его вой, являются решающим стимулом воздвигнуть Храм Света — коммунизм.
Может быть, никогда не будет создан мир, где Онегин и Татьяна станут, условно, Петром и Февронией или кем-то еще из «идеально любящих», но вполне может быть создан мир, который начнет изо всех сил сопротивляться безлюбию. Потому что будет ужасаться ему, помня о той самой первоначальной трагедии.