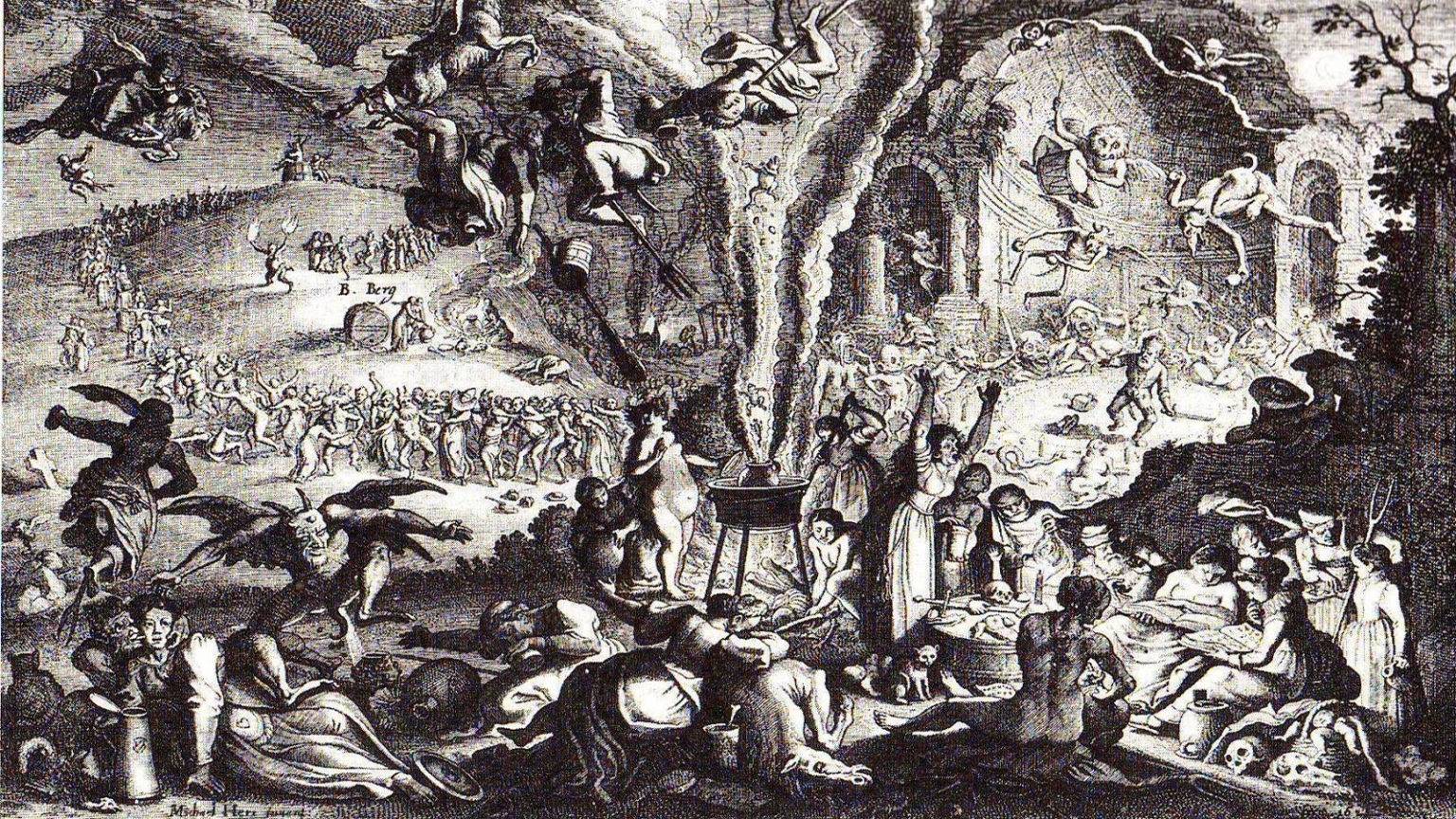Сочетаемо ли народное единение и классовая борьба?

Хороший человек — не профессия. Не является он и базой опоры для политического движения. Не стóит в этом плане обманываться извечной риторикой «демократов» из высших слоев общества: мол, мы должны стремиться к общечеловеческим ценностям, всеобщему благу, «примирению» всех со всеми. Эта позиция удобна для элиты, обеими руками держащейся за свою власть, удобна она и для крупного бизнеса, нутром чувствующего, где нужно защищать свое и когда появляется возможность «хапнуть» чужое... Неудобна она только для подавляемого правящими слоями населения: разговоры о «всенародности» не позволяют ему понять, кто враг, кто друг и «откуда смерть».
Простой человек, обладающий негативным жизненным опытом и некоторым критическим мышлением, может дойти до мысли, что всякое господство предполагает существование угнетаемых, а деньги у крупного бизнеса делаются не сами из себя, а из труда и жизни наемных работников и вообще общественных «низов» (в погоне за прибылью капиталисты никогда не чурались грабежа и спекуляций). То есть подойти к азам классовой теории, подобно французскому революционеру Марату, говорившему о борьбе «богатых» с «бедными» (хотя стройная классовая теория появилась уже после поражения революции у мыслителей из «высшего» общества вроде монархиста Франсуа Гизо).
Левым, «народным» силам потребовалось пройти через многие неудачи, чтобы сделать менее очевидный вывод: подавляемые при капитализме слои общества также делятся на «классы». И различные эти «низшие классы» играют совсем не одинаковую роль в революционном движении. До сих пор ключевым различием здесь является деление на наемных рабочих (пролетариев) и мелких буржуа («мелких хозяйчиков», пожираемых крупным капиталом). Особенно больным в истории был вопрос, куда относятся крестьяне — большая и самая «лакомая» для революционеров часть народа. Хотя к XXI веку многое изменилось, стоящие за этим спором политические схемы и идеи актуальны и по сей день. А к чему приводит их игнорирование, описывал еще Маркс в 1848 году:
«Демократ... воображает поэтому, что он вообще стоит выше классового антагонизма. Демократы допускают, что против них стоит привилегированный класс, но вместе со всеми остальными слоями нации они составляют народ... Поэтому им нет надобности перед предстоящей борьбой исследовать интересы и положение различных классов...
Но если оказывается, что их интересы не заинтересовывают, что их сила есть бессилие, то виноваты тут либо вредные софисты, раскалывающие единый народ на различные враждебные лагери, либо армия слишком озверела, слишком была ослеплена, чтобы видеть в чистых целях демократии свое собственное благо, либо всё рухнуло из-за какой-нибудь детали исполнения, либо, наконец, непредусмотренная случайность повела на этот раз к неудаче...»
Идея классов возникает из наблюдения, что разные группы людей занимают в общественно-экономической системе различное положение в плане собственности (в том числе на средства обогащения и производства «потребительских» благ), политических и иных возможностей (например, потребления или развития личности). Более того — жизнь не стоит на месте, и каждая такая группа имеет некую динамику, стремится к некоему новому состоянию.
Кажется, что в каком-нибудь XIX веке, в условиях капитализма и крестьянин, и пролетарий одинаково угнетаются «по всем параметрам»: их жилища и орудия труда принадлежат аристократу или капиталисту, и потому у них есть равные основания для борьбы. Но стоит посмотреть на шаг вперед — и пути их расходятся.
Эффективность промышленности связана с ее укрупнением и концентрацией, то есть с тем, чтобы большее число рабочих трудилось ближе и в более крепкой сцепке друг с другом. Далее, промышленная техника усложняется — и требует повышения квалификации работников, их перехода от примитивного ручного труда к интеллектуальным и управленческим функциям. Главное же — что всё это требовалось не только капиталисту (который в условиях конкуренции, добиваясь большей экономической эффективности, выкидывал рабочих на улицу, заменял их машинами и т. д.). Сам работник был заинтересован в том, чтобы производительность техники беспредельно повышалась (сокращая рабочий день) и тяжелый ручной труд заменялся более «благородным» умственным.
В сельском же хозяйстве всё было иначе: крестьяне не только не нуждались в плотной кооперации друг с другом, переходе к интеллектуализму и управлению и т. п. (даже относительная прикованность к земле в противоположность к «бездомности» пролетария играла свою роль). Их предельной мечтой было обзавестись личным индивидуальным хозяйством, достаточным, чтобы прокормить семью на год вперед. А затем — перейти к «излишествам» вроде условного самогонного аппарата и пьянства во «внерабочие» месяцы (судя по сообщениям рабкоров времен НЭПа, этот сценарий поведения отнюдь не выдумка). Либо — что ничуть не лучше — начать давать «излишек» взаймы, эксплуатировать «расслабившихся» за самогоном соседей, идти в криминал и политику и т. д. т. п., то есть стать из мелкого буржуа — крупным. Кулак времен НЭПа — яркое, а главное, совершенно не неожиданное для большевиков явление этого порядка.
Развитие пролетария идет в коммунистическую сторону: коллективизм, рост связей, усложнение деятельности и личности. Ему нужен «остальной» народ: крестьяне для продовольствия, ученые для развития техники, учителя для повышения квалификации и т. д. Крестьянам же всё это (как бы) не нужно и поначалу даже враждебно (снова отнимают дом и землю ради каких-то горожан). Отсюда, в целом, вытекает идея диктатуры пролетариата — именно этот класс «тянет» общество к коммунизму.
Подобные оценки определяли практику большевиков и «сочувствующих» и до революций 1917 года, и в октябре 1917-го, и даже во время НЭПа. Например, Александр Богданов даже в условиях Великого Октября упрекал Ленина в том, что тот передал власть Советам не только рабочих, но также крестьянских и солдатских депутатов: «Нелепо думать, что полное согласие интересов между... пролетариями и мелкими хозяевами крестьянами — может неограниченно продолжаться... Крестьянство отнюдь не захочет жить неопределенно долго в кипящем котле; получив землю, сколько найдется, податную реформу и организованный кредит для поправления хозяйства, оно потребует «успокоения», а в случае надобности само осуществит его».
Идея Пролеткульта у Богданова обосновывалась тем, что пролетариату, «естественным» образом движущемуся к коммунизму, нужно с полным сознанием и готовностью вступить в диктаторские права. Иначе — нужно строить буржуазную парламентскую демократию.
Ленин, конечно, не испытывал никаких иллюзий ни по поводу крестьянства, ни по поводу опирающихся на него мелкобуржуазных партий (вроде эсеров). В 1905 году он пишет: «Они (эсеры — Д.Б.) говорят о трудовом крестьянстве, закрывая глаза на тот доказанный... факт, что среди этого трудового крестьянства сейчас уже безусловно преобладает у нас крестьянская буржуазия».
Уже в 1920-м он оговаривает: «Классы остались и останутся годами повсюду после завоевания власти пролетариатом. Разве, может быть, в Англии, где нет крестьян (но всё же есть мелкие хозяйчики!), срок этот будет меньше».
Ленин выделял из крестьянства «сельский пролетариат», то есть людей, в известной степени оторвавшихся от земли и занятых чистым наемным трудом. Их он противопоставлял основной массе крестьянства, стремящейся стать мелкими собственниками (в 1918 году их пытались организовать в комитеты бедноты в противовес крестьянским Советам). Однако после оглашения 8 ноября 1917 года эсеровского «Декрета о земле», раздававшего землю крестьянам, Ленин поясняет: «Мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда... В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы — не в этом суть».
Крестьянство должно было испить чашу мелкой буржуазности до дна: только укрепление кулаков, угроза вторичного разорения крестьян и лишениях их земли, на этот раз своими же соседями-кулаками, заставила большинство сельских жителей согласиться на вариант коллективизации. Пока же, в 1917 году, крестьянские организации активно выступали против большевистской власти, даже принявшей эсеровский декрет. Февраль и октябрь 1917-го в этом плане не сильно отличались от февраля 1848-го, описанного Марксом, когда парижский пролетариат подвергался объединенным атакам аристократии и крупной буржуазии, нашедших «неожиданную опору в массе нации — в крестьянах и мелких буржуа».
Было ли в крестьянстве некое особое общинно-русское начало, противостоящее буржуазности? Ленин в 1899 году пишет работу «Развитие капитализма в России», споря с народниками именно на эту тему. Он доказывает, что община в России (если она и обладала нужными качествами) активно распадается, идет по чисто капиталистическому пути.
Абсурдность ситуации — в том, что почти к тем же выводам пришли еще «прародители» народников — как западники, так и славянофилы.
Славянофил Алексей Хомяков, связывавший свои коллективистские утопии с Россией, после изучения реальной истории Отечества пришел к неутешительным выводам: «Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания не было в России». Про свои идеи соборности и т. п. он говорил, что они принадлежат будущему, а не конкретной крестьянской общине.
Западник Герцен, с другой стороны, разочаровался в Западе, когда увидел, что в послереволюционной Франции крестьяне стремятся не к строительству социализма, а к занятию места старого хозяина, превращению из мелкого собственника в крупного помещика.
Оба философа надеялись, что Россия, отставшая от Запада и потому способная учиться на его ошибках, не пойдет по капиталистическому пути. Однако ни у Герцена, ни у Хомякова не было твердой почвы под ногами — лишь благие пожелания на руинах философских воздушных замков. Пожелания, последующими поколениями народников чудесным образом превращенные в самоочевидные принципы. Сначала их теоретически разбил Ленин, а затем практически — реальная жизнь.
Какие выводы делали революционеры из историй своего и чужого «романа» с мелкой буржуазией — и крестьянством как ее проявлением? Конечно, в борьбе с угнетателями все угнетенные — союзники. Ленин активно противостоял попыткам крупной буржуазии (непосредственного врага мелкой) рассорить последнюю с большевиками. Дальнейшая история показала, что именно при советской власти мелкая собственность достигла своего расцвета — завершившегося разве что при Хрущеве.
Однако мелкий буржуа всегда разрывается между стабильностью своего положения при социализме (поскольку его не «съедает» крупный капитал) и мечтой о преображении в крупного буржуа, которую может дать ему только капитализм. Поэтому он никогда не идет до конца, всегда предпочитает полумеры, «примирение», сомнения, колебания. Опереться на него как на основную силу нельзя — таковой может стать только наемный рабочий, обладающий политическим сознанием и взявший власть в свои руки (например через Советы).
В своей работе «О «демократии» и диктатуре», вышедшей в разгар Гражданской войны, Ленин писал: «Мелкие хозяйчики неизбежно остаются колеблющимися, бессильными, глупыми мечтателями о «чистой», т. е. внеклассовой или надклассовой, демократии. Потому, что из общества, в котором один класс угнетает другой, нельзя выйти иначе, как диктатурой угнетенного класса. Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в состоянии только пролетариат, ибо это единственный класс, который объединен и «вышколен» капитализмом и который в состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу трудящихся...»
Это ленинское положение не потеряло своего значения вплоть до настоящего времени.