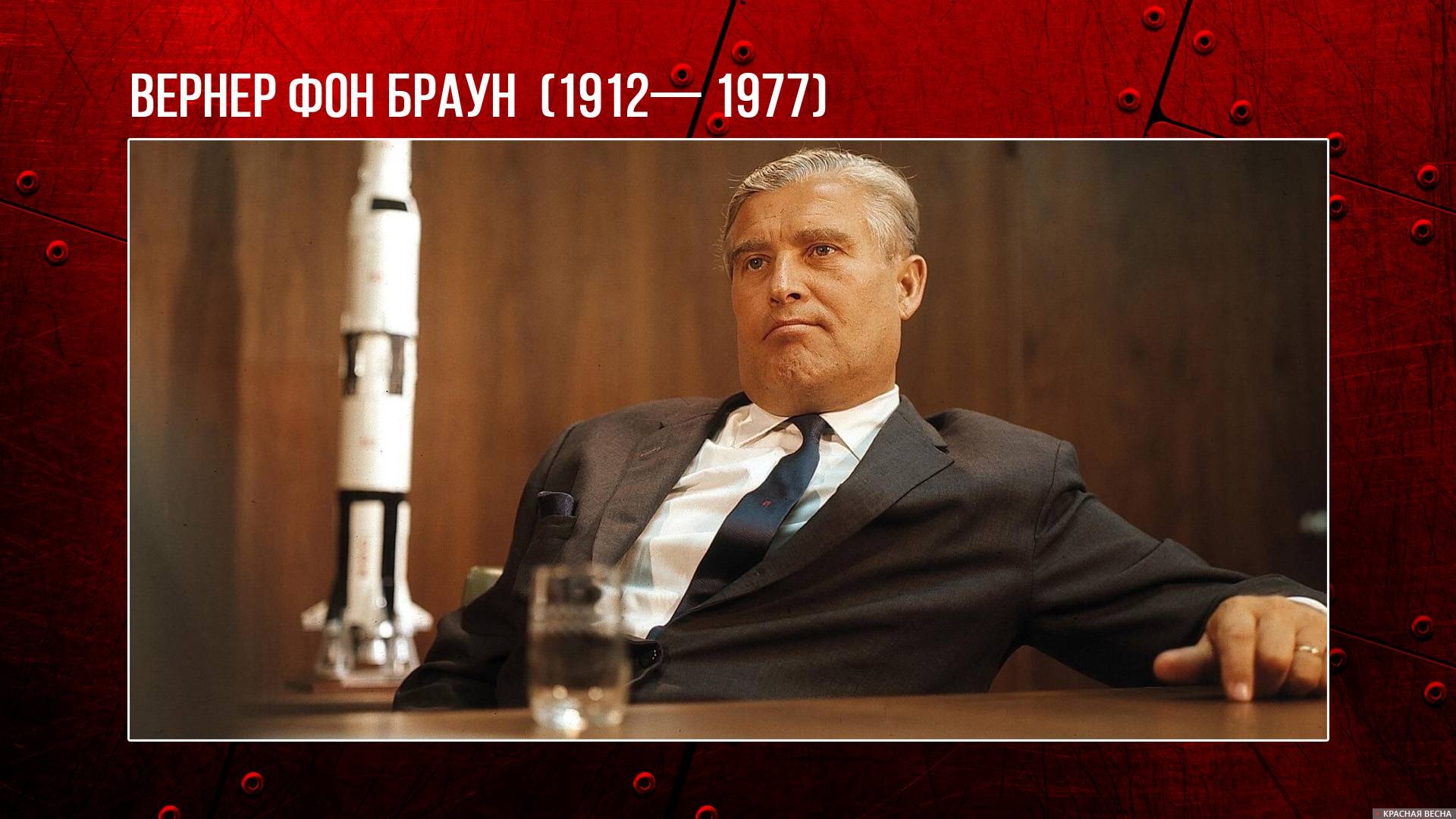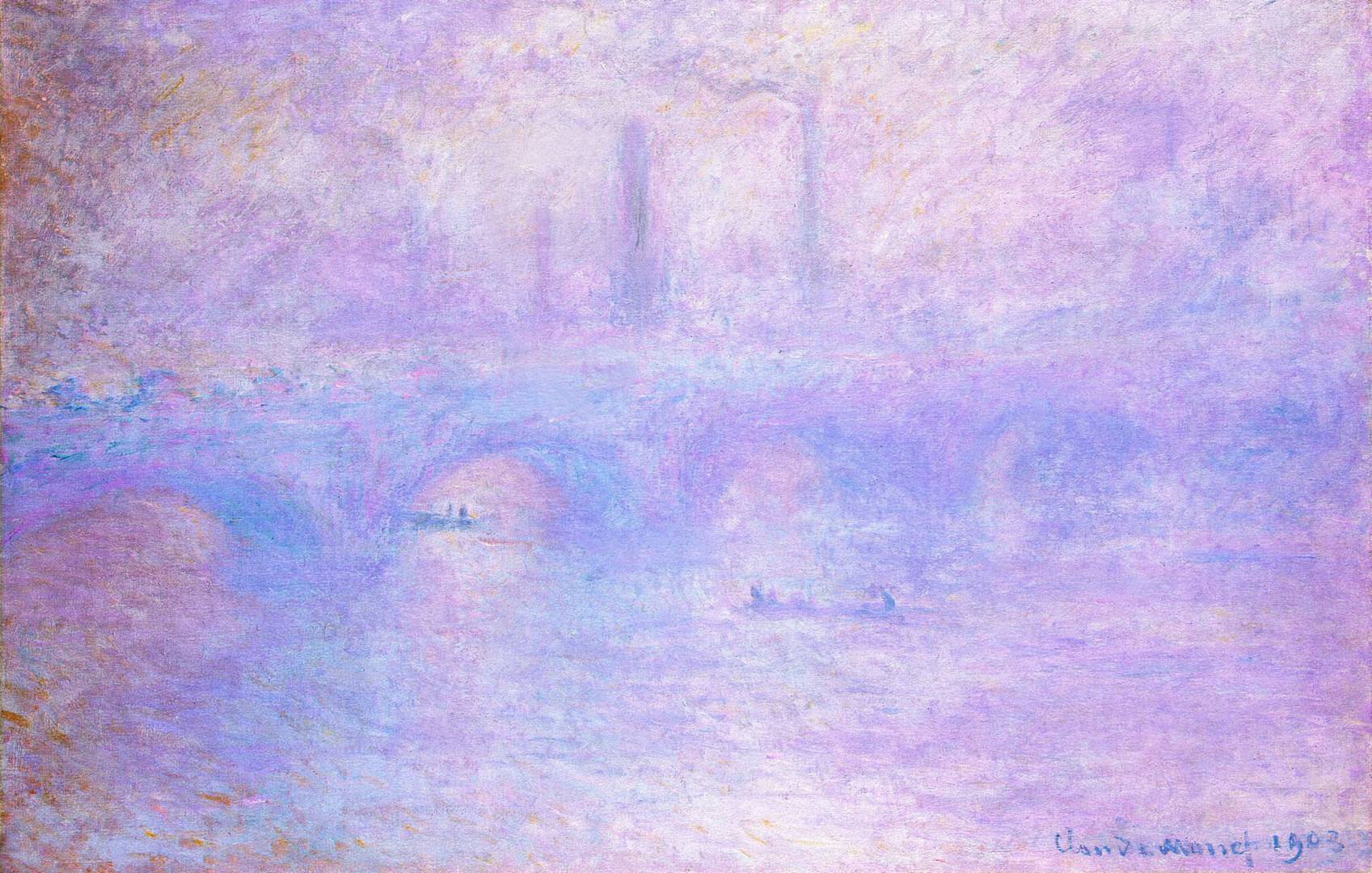Коронавирус — его цель, авторы и хозяева. Часть VIII

Должен ли мой детальный анализ большой коронавирусной игры, ведущейся на глобальном уровне, дополняться столь же детальным разбором нашей внутриполитической ситуации?
По мне, так в этом нет особой необходимости. И не только потому, что, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное». Но и потому, что развертывание коронавирусного экстаза на нашей территории в целом и в особенности в городе Москве шло прямо по сценариям, написанным в том штабе, который управляет глобальной коронавирусной игрой. Так что, разбирая большую мировую игру, мы за счет одного этого уже точнее понимаем, что происходит в нашем отечестве.
Впечатляет то, что распоряжения глобального штаба, разыгрывающего коронавирусную карту, выполнялись не только нашими руководителями, которых можно упрекнуть в их избыточной податливости по отношению к международным веяниям, этому неотменяемому до сих пор наследству прежней постсоветской эпохи.
Но эти же распоряжения столь же безропотно выполнялись, например, президентом США Трампом, которому выполнение подобных распоряжений грозило политическим самоубийством с далеко идущими последствиями.
И эти же распоряжения выполнял главный антагонист Трампа — руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Их же выполняли практически все страны Европы, Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки.
Крупных отклонений от выполнения директив глобального штаба, ведущего коронавирусную игру, фактически не было.
Поведение Лукашенко или руководства Швеции не опровергает того, что почти все выполнили распоряжение глобального штаба.
Всегда остаются небольшие государства, которые по тем или иным причинам могут позволить себе не вовлекаться в навязанную миру глобальную игру. Например, во Второй мировой войне Швейцария не участвовала. Много было бы толку, если бы она участвовала? Нет. Правда? А не участвуя, она была выгодна. Да и в ходе холодной войны не все страны вошли в один из двух враждующих военно-политических блоков. Многие оставались как бы вне этой игры, именуя себя то нейтральными, то неприсоединившимися, и извлекали из этого большие выгоды.
Чуть позже я обсужу поведение немногочисленных некрупных строптивых государств, которые то ли с согласия глобального штаба, то ли в пику его решению не присоединились к коронавирусному экстазу. Но всем, кто следит за происходящим, понятно, что такие немногочисленные и некрупные строптивцы являются исключениями из разряда тех исключений, которые подтверждают правила, а не отменяют их. Только так, а не иначе.
Весь вопрос в том, почему это так. И именно этот вопрос порождает необходимость включения в данный сериал передачи, посвященной соотношению между нашей внутренней и мировой политикой.
Начну я эту передачу с достаточно очевидной констатации. Поправки, внесенные в Конституцию, существенным образом трансформировали Конституцию, превращая из Конституции вхождения в «цивилизованное сообщество» в кавычках, каковой она была все предыдущие годы, по факту в Конституцию холодной войны.
Это так. И сколько бы ни говорилось на самом авторитетном уровне о том, что это не так, и мы не ведем холодную войну, это не может повлиять на мою оценку, потому что в большинстве случаев я свои оценки не абсолютизирую. А в данном случае все настолько очевидно, что никакие альтернативные подходы не могут вызывать во мне ничего, кроме уважительного недоумения.
Сегодняшний западный мир очень специфичен. И любое посягательство, к примеру, на статус ЛГБТ-сообщества в этом новом чудовищном мире воспринимается как неслыханное кощунство. Это, если хотите, намного страшнее, чем посягнуть на капиталистическое устройство жизни тех государств, которым ты бросаешь вызов. А именно такое посягательство на ЛГБТ-сообщество и на многое другое, а также на результаты холодной войны было сделано Россией и при внесении поправок в Конституцию, и сразу же после того, как эти поправки оказались поддержаны. Они потому-то и оказались поддержаны.
А поскольку все, кто знаком с Западом, знают норов и возможности сил, на которые посягнули, то сомнений в том, что эти силы ответят, нет и не может быть. Возможно, другие бы силы и не ответили. А эти ответят. И то, что я только что обсудил — есть лишь один из примеров того, что именно порождают и сами поправки, и последующие действия. А, как мы видим, действия не замедлили быть произведенными сразу после принятия поправок к Конституции. Так что холодная война уже шла после Крыма и Донбасса. А теперь она станет еще неизмеримо более холодной. Не надо иллюзий.
Повторяю, не один я понимаю, что это именно так. И, по моему мнению, ничего плохого в этом нет. Напротив, по моему мнению, это очень хорошо. Почему? Потому что глобальные процессы, или, как теперь говорится, глобальные тренды, делают холодную войну самым мягким из тех сценариев, в рамках которых Россия может просто сохраниться как государство. А если она не сохранится как государство, она будет беспощадно ликвидирована на уровне всего, что будет происходить с ее народонаселением, показателями жизни и так далее. Это будет супергеноцид. Так что, повторяю, холодная война — это самый мягкий из сценариев нашего самосохранения. И потому это самый лучший сценарий.
Но мы уже проиграли одну холодную войну. И если проиграем вторую, то, как я уже сказал и буду повторять неоднократно, на нашей безгосударственной территории развернется полноценный геноцид, а не европеизация жизни. Так что проигрывать эту войну совсем уж нельзя. И первую-то холодную войну нельзя было проигрывать. А уж эту тем более. И потому я вправе задать несколько вопросов.
Первый вопрос. Является ли наша экономика экономикой холодной войны?
В Советском Союзе была своя фармацевтика. Ее пустили под нож, потому что нужно было глобализироваться и участвовать в международном разделении труда. Да и вообще — «не до жиру, быть бы живу, не надо выпендриваться». Какова теперь наша фармацевтика? Она готова к серьезному вызову? Или кто-то считает, что вызов не будет серьезным? Будет, будет! А вся наша промышленность в целом, пищевая например, тоже к этому готова? Мы не являемся государством, освободившимся во имя вхождения в мировое сообщество, в «цивилизованное сообщество», от обременения под названием «экономическая самодостаточность»? Мы не являемся государством, открывшим свои ворота очень разным транснациональным компаниям и впавшим от этого в неописуемый восторг? «О, как у нас всё хорошо! Все флаги в гости будут к нам! Давайте, заходите!»
Кстати, неужели кому-то кажется, что открыв таким образом ворота, любуясь тем, как эти компании разворачиваются и набирают мощь, можно иметь внутреннюю элиту вообще свободной от лоббизма в интересах этих компаний? Это же мировая практика!
Второй вопрос. Есть ли у нас элита для холодной войны? Дело ведь не только в лоббизме. Дело во всем наследстве предыдущей эпохи, когда всерьез считалось, что твои позиции в стране определяются твоими позициями в западном мире. И это суждение имело необратимые последствия. Например, в качестве заключаемых браков младших отпрысков, мест проживания семей, структуры бизнеса, а главное, структуры мышления. Мы будем приводить нашу элиту в соответствие с поправками к Конституции? Поправки к Конституции трудно внести, но можно. И слава богу, что внесли. А в соответствие с этим будет приводиться очень инерционная общественная ткань, элитная прежде всего, да и не только?
Третий вопрос. У нас есть идеология для холодной войны? У Советского Союза была. Теперь это будет какая идеология?
Четвертый вопрос. Эту идеологию искренне готов отстаивать актив наших больших средств массовой информации?
Пятый вопрос. У нас есть интеллигенция для холодной войны? Не отдельные интеллектуалы с определенным мировидением, а именно интеллигенция как целое? Мы знаем, как ее быстро вырастить? Как придать ей соответствующую убедительность, наступательность, солидарность и все прочее? Современность…
Шестой вопрос. Мы обладаем совокупностью информационных возможностей, правильное использование которых нейтрализует работу того, кто находится с нами в отношениях холодной войны? У нас есть интернет холодной войны? На всех уровнях — и на уровне наполнения, и на уровне инфраструктуры. Наши возможности в том, что касается интернета и прочего, соизмеримы с тем, что касается возможностей противника? Мы хотим менять это положение? Каким образом, в какие сроки?
Седьмой вопрос. Мы готовы нейтрализовать процессы, которые при переходе к полноценной холодной войне начнутся в тех сегментах нашего общества, которые наиболее подвержены влиянию нашего противника? Я когда-то называл это «глобиками». Это ведь не только элита.
Восьмой вопрос (наиболее важный в контексте всего, чему посвящен данный сериал). У нас есть все, что необходимо для полноценного ответа на биологическую войну?
Девятый вопрос. Можно ли выиграть холодную войну, не превращая общество потребления, которое создавалось десятилетиями, в совсем другое общество? Какое?
Десятый вопрос. Немногочисленные консервативные элиты Запада и мира будут нам аплодировать, но у нас есть несколько поясов безопасности и надежных союзников, готовых вместе с нами вести холодную войну? Они у нас были, худо-бедно. Теперь они у нас есть?
Я мог бы задавать вопросы и дальше, но я остановлюсь на этой ключевой десятке.
Вы только не подумайте, что я предлагаю не вести холодную войну. Уж кто-кто, но не я это предлагаю. И потому, что для меня нынешний Запад — это абсолютная погибель. И потому, что Запад уже ведет против нас холодную войну. Мы притворяемся, что этого не замечаем. И мы не можем уклониться, даже если захотим. Так что единственное, чего я хочу, — это выиграть в холодной войне.
Я не хочу поэтому, чтобы нарастал разрыв между принимаемыми документами и риторическими жестами — и реальным многомерным поведением страны, которая, видимо, не вся еще и не полностью поняла, «что ныне лежит на весах и что совершается ныне», в эпоху коронавируса.
И я убежден, что без этого понимания и без соответствующих системных мер, которые породят не только другую Конституцию, а совсем другую страну, совсем другую реальность, обойтись невозможно.
Мне скажут: «Да вот мы начали с Конституции, а потом придет все остальное. Важно ввязаться в бой, а там посмотрим».
Отвечаю. Все, что во мне еще способно надеяться, может надеяться лишь на это по-настоящему. Но я не хочу пустых надежд в духе пушкинского «ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Слишком уж велика цена такого обмана.
И потому я буду в этой серии обсуждать происходящее — я имею в виду то, что происходит у нас и в мире, — так, как подобает это делать в условиях приближения некоего большого системного неблагополучия, которое еще можно ввести в определенные берега, но только в случае, если полностью будет развеян туман так называемого триумфаторства. И будет оценено настоящее — не выдуманное, не навязанное противником, а реальное — неблагополучие нынешней ситуации.
Оно-то и должно породить не сломленность, упаси бог, а мобилизованность, без которой мы победить не сможем. А значит, проиграем. Причем, повторю еще раз, с последствиями неизмеримо более губительными, чем в 1991 году. Ведь и тогда некий угар непонятного триумфаторства имел место вплоть до самого конца. И все время говорилось (в частности мне Михаилом Сергеевичем Горбачевым): «Не надо драматизировать». Надо! Надо драматизировать! Паниковать не надо, истерик закатывать не надо, преувеличивать неблагополучие не надо. А драматизировать, то есть развеивать триумфаторский туман, надо, и в этом обязанность аналитика. Иначе место драмы и драматизации займет такая трагедизация, что даже не хочется об этом думать.
Российская власть справедливо считает, что она может не особенно тревожиться по поводу нынешних общественных умонастроений, которые, и впрямь, во-первых, вялые, во-вторых, противоречивые и, в-третьих, в каком-то смысле бесхозные. Все правильно. Нынешние общественные умонастроения именно таковы.
Но власть делает грубейшую ошибку, полагая, что эти умонастроения не обладают опасной динамикой. Да, они при нынешнем их состоянии относительно безопасны. Но ограничиваться констатацией лишь нынешнего состояния могут только временщики. А нынешняя российская власть себя никоим образом не расценивает как власть временщиков и не заявляет: «После нас хоть потоп». Она же себя совсем иначе расценивает, по принципу «всерьез и надолго». Нынешняя российская власть в своих собственных глазах является квинтэссенцией мудрости и прагматизма, которые якобы диктуют ей необходимость так называемого ситуационного реагирования. Подчеркиваю — не характерного для временщиков безразличия к будущему (мол, «после нас хоть потоп»), а прагматической выжидательности: мол, «когда это будущее оформится и станет настоящим, тогда мы и будем на него реагировать. А покамест кто его знает, каким оно будет. А ну как кто-то нас им стращает, а на самом деле имеет свои корыстные интересы. А ну как кто-то торгует страхом и так далее».
Можете поверить мне на слово, что далеко не только всем известные экстазники занимались и занимаются неким эзотерическим прочтением произведений Пушкина. Что и вполне серьезные люди занимаются тем же самым. И совершенно непонятно тогда, как такой эзотерический уклон может сочетаться с политической практикой, в основе которой пренебрежение не только к «Сказке о золотом петушке», но и отвержение тех мудрых поучений, которыми пронизаны и «Сказка о рыбаке и рыбке», и «Песнь о вещем Олеге». Ведь пушкинские уроки, о которых я говорю, ну никак не сочетаемы с яростно отстаиваемым нашей элитой принципом сугубо ситуационного реагирования. Суть которого в том, чтобы забить болт на будущее («Мало ли что случится!») и реагировать только на настоящее.
С точки зрения настоящего, власть справедливо рассматривает голосование по конституционным поправкам как свой политический триумф. А почему нет? Почему нет? Ситуация коронавируса — это полный хаос, в нем вообще что-то развернуть трудно. Люди испуганы. Почему бы не сказать, что триумф-то? Издержки, возможно, рассосутся, приобретения носят безусловный характер. Дело сделано.
Но ровно на то же самое (вспомните: всё, что есть в виде опыта у политика, — это история) рассчитывали и в 1905 году, и в 1907-м, когда разгоняли Думу, и в 1914-м, когда начинали войну, и в 1916-м, когда говорили «не надо драматизировать», и, наконец, в 1991 году.
Поскольку исторический опыт почему-то никогда никого не убеждает, а надрывно убеждать кого-то в чем-то не в моих жизненных правилах, то я позволю себе короткое политологическое размышление о нынешней ситуации.
К 2020 году в российском обществе сформировалось — я настаиваю на этом — очень рыхлое, крайне неэффективное в политическом плане, раздираемое внутренними противоречиями патриотическое большинство. Не формально патриотическое, не идеологически патриотическое, а вот так, что в воздухе что-то разлито. Это большинство не имеет никакого отношения к партиям, так или иначе позиционирующим себя на нынешней российской политической сцене. Но именно это большинство в итоге определяет будущее тех или иных политиков. Причем оно определяет их будущее не через шумные выступления и даже не в процессе голосования. Оно определяет будущее как-то иначе. Ну поверьте, я говорю, основываясь на опыте.
Жил-был один президент, и все было хорошо. А потом на каких-то дачах вяло начали бухтеть. И никто не говорил, что кого-то надо свергать. Но только жена президента уловила этот бухтеж и быстро сумела осуществить рокировку. Россия — очень специфическая страна. Там всё невнятно, всё вяло всегда. Но это не значит, что безрезультативно.
Короче, будущее определяет это аморфное, вялое, слабополитизированное и трудномобилизуемое большинство. Потому что от него исходят некие флюиды, они передаются на дачи, а дальше всё бухтит и что-то изменяется.
Так вот, этому большинству конституционные поправки определенным образом нравятся. Более того, они ему очень нравятся. А нынешняя российская власть, сформулировавшая эти поправки и решившаяся превратить их в конституционную реальность, этому большинству раньше не слишком нравилась, а теперь уже совсем перестает нравиться. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Но данное большинство, поразмыслив (не так, как ему вменяют эксперты и политологи, а сообразно своей особой несовершенной, по мнению этих экспертов и политологов, природе), решило за поправки проголосовать. Потому что, по его мнению, политики приходят и уходят, а поправки остаются. И оно свое решение выполнило. Посидело, покумекало, почесало репу — и выполнило.
Кстати, наиболее волнующая наших либералов поправка — принцип обнуления сроков — данному большинству абсолютно по барабану. Большинство это справедливо считает, что коли оно захочет, то не перевыберет и при обнулении сроков. Оно вообще — специально так говорю — не в курсах, что это так важно.
Вообще же данное большинство склонно терпеть власть не потому, что обладает рабской натурой. А потому, что считает своим даже самое несовершенное государство и очень боится его потерять. А после событий 1991 года проявляет особую осторожность в вопросе о том, как бы не сковырнуть государственность вместе с властью. Оно же чувствует, что у него рыльце в пушку, что оно тогда-то одно от другого не отделило.
Распад Советского Союза — это долговременный шок для обсуждаемого мной большинства. И это урок того, что нельзя проявлять безоглядную антивластность. Что всё время нужно отделять власть от государства и при любом отношении к власти государство надо беречь во избежание ужаса безгосударственности.
Для того чтобы большинство поступило иначе, его надо не просто задеть, его надо задеть жутко, внушив ему беспредельное отвращение к власти и представив эту власть в качестве абсолютно безнадежной, а заодно и слабой. Пока до этого еще далеко. Но процесс движется в этом направлении. В этом.
Да, он движется в этом направлении медленно и небезусловно. Но стоит ли уповать на такие свойства процесса, осознавая его направленность? Никакой любви к нынешней власти у этого большинства нет и в помине. Это касается всех действующих лиц без исключения. Их покамест терпят во избежание худшего. Но не надо обольщаться этим «покамест». Мышей ловить надо, пока не поздно! И приводить что-то в соответствие с чем-то. Каждый день.
Данное большинство буквально взбесили и изменения сроков выхода на пенсию, и карантинные злоключения. В оценке этих злоключений данное большинство будет полагаться не на интернет, в котором будут сформулированы мнения даже симпатичных ему экспертов, и уж тем более не на телевидение. Оно будет привычным для него образом ориентироваться на так называемые кухонные разговоры, включающие не только беседы с близкими людьми на кухне, но и бухтеж в курилках во время перерывов, а также бухтеж во время праздничного изготовления шашлыков, а также бухтеж во время телефонных разговоров и так далее.
Данный принцип формирования оценки настолько чужд экспертам, что эксперты предпочитают этот принцип формирования оценки попросту игнорировать. Что, по моему мнению, например, крайне недальновидно и абсолютно непрофессионально.
Повторяю, данное большинство является чрезвычайно рыхлым, преисполненным частных противоречий, крайне слабо организованным, не слишком продвинутым в аналитическом плане, до крайности аполитичным, совершенно внепартийным и невероятно трудно мобилизуемым. Но если оно начнет шевелиться — не бежать галопом, а шевелиться, — всё остальное может застыть и ждать, когда шевеления прекратятся.
Данное большинство сильно потеряло доверие к Путину. Что касается всех других политических игроков высшей лиги, то они этому большинству просто отвратительны — и пусть они об этом знают.
Наверное, поскольку к большинству всё не сводится, в относительно либеральной Москве есть серьезные сообщества, которым нравится карантинная решительность Собянина. Но большинство в ответ на эту решительность глухо и ненавидяще рычит. И это не бессильный рык. Это так называемые гроздья гнева. Нужно заткнуть уши, закрыть глаза, страшно дистанцироваться от этого большинства, полностью обусловить себя мнениями близкого тебе меньшинства, чтобы не видеть, и не слышать, и не понимать, чем это чревато.
Обсуждаемое мною большинство никогда не посягнет на власть. Слышите? Никогда. Не из трусости, а по причине наличия полубессознательного государственного инстинкта. Но если оно не посягнет на власть (я этого даже представить себе не могу), а просто отпадет и отодвинется от нее, и начнет бухтеть чуть-чуть сильнее, чем обычно, то власти не позавидуешь.
А процесс идет в этом направлении. Медленно, повторяю, противоречиво, но он ползет туда. И те, кто говорит что-нибудь другое, простите меня, просто лгут.
Конечно, всё не сводится к большинству. Есть элиты, есть очень активное и многочисленное прозападное либеральное меньшинство. И до момента активного шевеления большинства именно эти силы будут определять политический рельеф. Но только до этого момента. До этого момента, слышите?
Мой двоюродный дедушка, свидетель революционных событий, с удовольствием записывал высказывания ораторов такого большинства на революционных митингах 1917 года. И в эпоху моего детства зачитывал свои записные книжки во время различных застолий. Мне больше всего запомнилось, как закончил речь один из ораторов, чьи слова записывал мой родственник. А закончил этот оратор свое выступление словами: «Постольку поскольку и бязусловно».
Вот я тоже, уподобляясь этому оратору, закончу свое обсуждение роли большинства в российской политике именно этими словами: «Постольку поскольку и бязусловно». И перейду к обсуждению других общественных величин, с которыми я когда-то раз и навсегда связал свою — не только политическую, но и человеческую — судьбу.
Прежде всего, мне хотелось бы высказать искреннюю благодарность всем тем, кто даже после освобождения из коронавирусного заточения продолжил знакомство с этой передачей. Таковых оказалось на удивление много. Передача сложная, освобождение внушает определенные соблазны по принципу «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». В этом смысле их оказалось непредсказуемо много.
Что значит «много»? Конечно, их страшно мало по отношению к миллионам и миллионам, готовым внимать рассуждениям барышни, вынимающей модную губную помаду из красивой сумочки. Но их больше, чем можно было предположить. И их достаточно для того, чтобы можно было говорить об активном и думающем небезразличном меньшинстве. С его наличием я всегда связывал спасение России. И только его наличие может внушать мне определенные надежды.
Между тем всё, что происходит в России, состоит, во-первых, из стратегического отчаяния, порожденного жуткой общественной деградацией, являющейся следствием распада СССР и постсоветского регресса, — и, во-вторых, вот этой слабой надеждой. Всё. Ничего другого в происходящем нет.
С одной стороны, ты постоянно видишь все приметы исчерпанности, чуть ли не вырождения. Тебе не нужно для этого сложных умопостроений. Тебе надо постоять у окна минут 40 и увидеть, что клубится на улице.
А с другой стороны, после твоих спектаклей в фойе часами стоят молодые люди, стремящиеся обсуждать очень сложные проблемы, не имеющие вдобавок никакого прагматического характера. И ты твердо знаешь, что подобные интеллектуальные собеседования достаточно массового характера — не с десятью людьми, а с сотней — уже невозможны даже в относительно живой Южной Европе, то есть в Испании, Португалии, Италии, Греции, на Балканах. А уж в Германии, во Франции, в Великобритании, Швеции, Норвегии и так далее, это уж тем более невозможно. Да и вообще непонятно, где такие обсуждения возможны, кроме России.
Постсоветская Россия погрузилась в ту скверну, которую нельзя лицезреть без внутреннего содрогания. Но, погрузившись в эту скверну, она все еще живет. И, как говорилось в советской диссидентской песне, «все ставит из себя».
А мир в этом смысле — уже не живет. Подчеркиваю, именно в этом смысле. Он клубится, чавкает, пыхтит, ворочается, но не живет в человеческом смысле слова.
Я очень люблю Индию. Это совсем живая страна, не отрекшаяся до конца от своей тысячелетней духовности и худо-бедно соединившая эту страстную духовность с современностью. Но именно в силу своей накаленной духовности Индия никогда не хотела жить исторической жизнью. А Россию всегда отличало именно историческое упрямство, вот то самое, про которое говорится «все ставит из себя».
Китай я тоже очень люблю. Там духовность всегда была менее накаленной, чем в Индии. Но она сохранена. И помножена на успешное освоение современных возможностей. Такое успешное, что дальше некуда. Дух захватывает. Но в этом тоже нет той исторической безудержности, которая всегда была присуща России.
Вне этой исторической безудержности человечество неминуемо погибнет. И никакая внеисторическая духовность его не спасет. Сначала покой, потом гниение, а потом гибель. И все это развернется очень быстро на фоне специфического осовременивания.
В России эта отчаянная историческая безудержность клубилась с незапамятных времен. И ее высочайшие проявления — советский коммунизм и советская красная имперская сверхдержавность.
Оголтелое отречение от всего этого во имя невесть чего, при том что это «невесть чего», видимо, имеет существенное отношение к разнообразию среднекачественных шмоток, было ужасной ошибкой, породившей чудовищные последствия.
Совершив эту ошибку в состоянии некоего угара и помрачения, страна фактически потерпела поражение в холодной войне. Это кто-то здесь может говорить, что это не так. А за рубежом все убеждены в том, что это именно так. Повторяю, кто-то это может отрицать, но такое отрицание по большей части имеет невротический характер. «Нет, нет, нет! Мы всё сами сделали, сами! Во имя светлого будущего!» А невротик всегда отрицает нечто почему? Потому что он избегает правды. Эта правда причиняет ему избыточную боль. И, избегая боли, он начинает врать себе и другим.
Россия, во-первых, потерпела поражение в холодной войне, а во-вторых, потерпев это поражение, она была порабощена победителем. Победитель понимал, что побежденную Россию надо погрузить в глубокий сон. И что в противном случае победа над ней может оказаться не окончательной. А он стремился к окончательной победе. Ему это было необходимо.
Значит, он должен был навязать России глубокий сон. А такой глубокий сон может быть навязан побежденной стране только в одном случае — если поражение удается поселить внутрь каждого из граждан страны. Тогда поражение начнет разлагать души людей и лишать их духовной силы.
Причем совсем не трудно соорудить нечто наподобие эстафеты пораженчества. Эстафеты поколений, я имею в виду. Отчаявшиеся родители начинают пить, дурить, растлеваться — и всем этим воздействуют на детей. Дети приумножают пораженческие «забавы» родителей, придавая этим «забавам» еще более жесткий и деструктивный характер. Вот вам и эстафета поколений. Думаете, кто-нибудь не мог сообразить, что это должно быть именно так?
Так это и случилось. Или, точнее, так и было организовано. Почему вопреки этому (а все это имеет вопиющий характер) не произошло окончательного слома всего человеческого сообщества, проживающего на нашей территории, — непонятно. То есть у меня есть по этому поводу какие-то соображения, но, во-первых, я не хочу посвящать им эту передачу. А во-вторых, не факт, что эти соображения нужно прям так вот излагать в передаче с тем, чтобы слушали все подряд, в том числе и те, кто хочет превратить поражение в окончательное.
Итак, я только констатирую, что, с одной стороны, повреждение чудовищно и огромно. И оно носит внеполитический характер. И даже в каком-то смысле внегражданский. Оно на уровне простейшей онтологии происходит, быта. На уровне повседневности.
А с другой стороны, это повреждение почему-то неокончательно. И молодые люди, являющиеся жертвами этого повреждения, овнутрившие поражение и все, что оно с собой принесло, в том числе и на уровне повседневности, хотя бы в малой части своей почему-то сохраняют духовный запрос, соседствующий в их душах с разного рода благоприобретенной пакостью.
Таким мне видится современное постсоветское общество. Поэтому оно мне внушает и надежду, и отчаяние.
Я всегда считал, что империя — не колониальная, а вот такая идеократическая — это наилучшее устройство общества. И что имперскость — неотменяемая черта нашего народа, нашей культуры и нашей исторической бытийственности.
Мы лицезрим несомненное физическое разрушение империи с отделением Украины, Белоруссии и всего остального. Но еще страшнее этого физического разрушения — изымание имперской души. Вот если ее изъять, тогда Россия рухнет окончательно и ничего нового не приобретет. Стать обычной европейской страной она не сможет и не захочет. Да и непонятно, что такое сегодня обычная европейская страна. Дания?
Так что надо думать о воскрешении имперской души. Тогда и тело воскреснет.
Судьба подарила мне возможность неоднократных откровенных бесед со многими интересными людьми, явным или неявным образом влиявшими на происходящее.
Одним из таких людей был выдающийся израильский разведчик Рафи Эйтан. Он был знаменит тем, что выкрал из Латинской Америки нациста Эйхмана и привез его в Израиль, где Эйхмана и повесили. А еще Эйтан был знаменит тем, что создал свою агентуру в США. И его агент, аналитик военно-морской разведки Джонатан Поллард, был осужден в США за шпионаж в пользу Израиля и просидел в американской тюрьме 18 лет. Рафи Эйтан стал фактически персоной нон грата в Соединенных Штатах. И одновременно одним из ближайших друзей и деловых партнеров Фиделя Кастро.

Рафи Эйтан поделился со мной однажды своими незамысловатыми, но очень важными соображениями по поводу имперскости. «Вот смотри, — сказал он мне, — какой-нибудь американский цэрэушник приезжает в Латинскую Америку на пару лет. Потом перекочевывает на Ближний Восток. Потом еще куда-нибудь. И нигде не задерживается. А если задерживается, то рассматривает это как огромную неудачу. А англичанин как сядет на стул в своем кабинете, находящемся в какой-то стране, так с этого стула и не встанет, пока его зад и стул не приобретут одну и ту же форму. И он не будет переживать по поводу того, что торчит на одном месте десятилетиями».
Сообщив мне об этом, Рафи сделал глубокую паузу, а потом сказал: «Империя — это когда хотят знать».
Имперская душа сохранена в определенных частях нашего ужасно сильно поврежденного общества до тех пор, пока хотят знать. И ведь хотят! Никто в мире не может понять, зачем русским людям, далеким от элитарности, нужно знать нечто по поводу мирового процесса и расклада мировых сил. Мой ответ на это таков: «Им нужно это знать, потому что имперскость не вырвана из душ до конца, ее не удалось вырвать с корнем. А имперскость — это и есть желание знать».
Я раз за разом делаю ставку на это, потому что больше-то делать ставку не на что. И раз за разом убеждаюсь, что запрос на так называемое бесполезное знание (бесполезное с прагматической точки зрения) существует. Он не так велик, как мог бы быть, если бы наше общество не было чудовищно повреждено. Но он не убит полностью. И не превращен в прерогативу совсем уж микроскопических сообществ.
Такой запрос на имперское знание для меня крайне ценен и по сути является, повторю еще раз, единственной надеждой на возможность как-то выбраться из того капкана, в который попал народ в перестроечную и постперестроечную эпоху.
Если рассматривать распад Советского Союза и крах советского общества как результат победы противника в холодной войне, то ситуация, оформленная этой победой, не может не расцениваться как мягкое порабощение побежденного. Для того, чтобы преодолеть подобную ситуацию, необходим союз настоящей — не побоюсь этого слова — имперской интеллигенции и того народного большинства, с обсуждения которого я начал эту передачу.
Ни само это народное большинство, ни сама эта интеллигенция, взятые в отдельности, порабощению сопротивляться не могут. Важно, каковы будут настроения в народном большинстве, недораздавленном поражением в холодной войне. Еще важнее, сформируется ли позитивная имперская интеллигенция. Но важнее всего — связь двух этих слагаемых. Вся моя надежда на то, что эта связь возможна. Возможность этой связи — вот мой символ веры, от которого я никогда не откажусь.
В силу этого я, с горечью наблюдая за очень ошибочными действиями власти и во время коронавируса, и при голосовании за поправки к Конституции, тем не менее расцениваю внесение этих поправок вовсе не как властный триумф, а как триумф народного здравого смысла, который власть не смогла до конца исказить даже своими, мягко говоря, крайне бестолковыми и очень неэффективными действиями.
Такова моя абсолютно искренняя оценка произошедшего. Она не имеет никакого отношения ни к провластно-охранительному экстазу триумфаторскому, ни к бессмысленному либеральному скепсису. Я с горечью лицезрю и этот экстаз по поводу коронавирусной «мудрости», и некий административно-пиаровский экстаз по поводу голосования. Но при этом я считаю, что государство принадлежит не Путину, Мишустину, Собянину и другим. А всем гражданам России. Что именно им без этого государства — хана. Что элита-то еще попытается куда-то убежать (не факт, что сумеет). А рядовые граждане России, потеряв государство, вкусят от полноценного геноцида. В том числе и потому, что Россия слишком долго выпендривалась, «ставила из себя», пылала исторической страстью. И именно ей слабости в особой степени не простят. Я это знаю наверняка.
Поправки в Конституцию по преимуществу нацелены на укрепление государства и его отдаление от Запада. А приближение России к Западу для государства абсолютно губительно. Ну так и пусть государство укрепляется, а дистанция нарастает. Если сокращение дистанции губительно, то наращивание — спасительно. Другое дело, еще раз скажу, что если ограничиться юридическими и риторическими, и пиаровскими жестами, то это кончится плохо. Так это значит, что не надо этим ограничиваться.
Что касается обнуления сроков, то я к этим обязательным двум срокам с очень давних пор отношусь с предельным недоумением. Вот честно говорю. Я не понимаю, почему, когда лидера избирают на два срока, то это демократия. Демократия — это когда за лидера голосует большинство. На основе свободного волеизъявления. Без подтасовок, манипуляций и прочего.
Предположим, что у лидера рейтинг 80%. На сегодня это, увы, абстрактный пример. Но предположим, что это так. И вот он отработал два срока, после чего должен уйти. А с ним связаны все общественные надежды. Почему он должен уйти? Кому это нужно? При чем тут демократия?
Эти два срока, после которых лидер должен уйти, изобретены американской элитой, американским господствующим классом в связи с одним-единственным обстоятельством — эта элита или этот класс до смерти испугались третьего срока Рузвельта. А испугались они того, что Рузвельт вместе с избравшими его народными массами, с американским большинством, оказались сильнее элиты и начали посягать на ее интересы. Вот тут-то и убили Рузвельта, и заорали с особой истовостью о том, что два срока — это священная корова, на которую нельзя посягать. Я уже говорил, и повторю еще раз: по поводу того, что убили Рузвельта, в моем присутствии (я был очень смекалистым подростком) говорили замечательные американисты, входившие в элиту советской американистики, и пившие коньяк «Двин» вместе с моим отцом.
Итак, американцы, американская элита, американский правящий класс убили Рузвельта, потому-то он на многое замахнулся, и тут же начали орать, что два срока — это священная корова, на которую нельзя посягать. И с тех пор орут, не переставая. Причем с такой силой, что люди уже начинают верить в то, что демократия равна принципу двух сроков, являющихся неотменяемой характеристикой демократичности и легитимности вообще.
Неотменяемой?
Простите, либерально-демократическая партия Японии правила десятилетиями, да и сейчас отнюдь не перестала рулить процессом. Почему этот вид несменяемости никого не тревожил? Да и вообще, возможно ли существование крупного государства при условии, что стратегическое содержание власти будет меняться раз в восемь лет вместе с приходом нового лидера? Да-да, это возможно, но только в одном случае — если стратегическое содержание власти будет крайне мало связано со сменой лидерства. Если эта смена лидерства будет развлечением, а стратегическая игра будет вестись ниже или сбоку, или в тени и на несменяемом уровне. Так эта игра и ведется, и осуществляется так или иначе оформленным ядром господствующего политического класса. Подчеркиваю — не самим политическим классом, а так или иначе оформленным ядром этого класса.
Возможность избирать власть весьма существенна, но именно в плане окорота этого ядра. И если бы в Конституции было сказано, что избирать власть нельзя, то я прервал бы свое, видимо, многими замеченное молчание (потому что мне не хотелось случайно слиться в экстазе, который я не разделяю). Я бы прервал это молчание и высказался. Так же, как я высказывался по многим другим поводам. Но поправки никак не мешают избранию народом той власти, которая его устраивает. Если Путин не устраивает народ, если он потерял общественную поддержку, то его можно переизбрать и тогда, когда он выдвинется на третий срок. Все дело в общественной поддержке, в доверии — сохранено оно или нет. Если сохранено, почему бы ему не избраться? А если потеряно, так он и не изберется.
Подтасовки, видите ли, помешают его сместить. И чем дольше он сидит у власти, тем аппарат крепче и изворотливее. А значит, и скинуть власть с помощью выборов все труднее…
Во-первых, исторические примеры говорят о другом. Вы латиноамериканцам это расскажите.
Во-вторых, это же можно и к парламенту отнести. Он тоже, долго пребывая у власти, укрепляется в аппаратном и иных смыслах. «Долой японский долгий парламент! Долой другие парламенты! Все должно меняться раз в три месяца».
В-третьих, кто-то должен играть вдолгую. В противном случае, действительно, надо избирать новых лидеров и новые парламенты каждые три месяца или каждые полгода. И кто же этот «играющий вдолгую»? Я говорил и повторю еще раз, что в политологии такую силу, играющую вдолгую, именуют ядром господствующего класса. Оно-то и препятствует многократным переизбраниям лидеров, потому что ему нужна анонимная долгоиграющая власть.
Как справедливо говорят сегодня, политиков мы хоть избираем, а вот этого Гейтса — нет. А делает он, что хочет.
Хотите сменить власть — надо не ахать и охать по поводу двух сроков, а лучше контролировать процессы на избиркомах. А если кишка тонка, то никакая сменяемость не изменит сущности дела. Потому что придется выбирать между харизматическими фигурами и политической тусовкой, полностью управляемой олигархией.
Это касается и президентских выборов, и выборов в Думу. В 2021 году Думу будут переизбирать. Я уже сформулировал свою позицию, суть которой заключается в том, что процессы не топчутся на месте, а имеют очевидную направленность (пока что еще ту самую, про которую говорят «ни шатко ни валко»). И что этого достаточно для того, чтобы привести к результату, который уж никак нельзя будет назвать триумфальным. Да и называть его таковым будет некому.
Вот что, по моему мнению, должно находиться сейчас в эпицентре политического осмысления. Это — а не перебранка по поводу триумфов и подтасовок. Кстати, те, кто сейчас сетует на эти самые подтасовки, признают, что они максимум сдвинули бы результат 78% за и 22% против в сторону результата 65% за и 35% против, но и не более того. А значит, сколько ни крути, большинство за эти поправки. Да потому, что они большинству лакомы. И этому большинству глубоко, повторю вам, наплевать на эти обнуления сроков, которые так пугают нашу прозападную интеллигенцию. Опять-таки, я сказал, почему. Но сегодня это большинство находится здесь, а завтра оно будет находиться где-то еще. Сегодня оно ведет себя одним способом, завтра — другим. И есть определенная направленность.
Так что не про подтасовки и триумфы надо спорить, а улавливать тенденцию. И беспокоиться надо о том, чтобы к власти завтра (на волне справедливого недовольства очень и очень многим) не прорвались антигосударственные силы. А также прямые пособники Запада, призванные наращивать порабощенность страны. А еще надо беспокоиться, если здравый смысл сохранен, о том, чтобы приводить содержание, то есть существование общества, элиты и так далее, в соответствие с новой формой, а не отрывать форму от содержания.
Скажут: «А вот вы тут сказали про пособников Запада. Так вот эти и есть пособники Запада, что показал коронавирус. А вдобавок еще и воры. И так далее». Давайте я несколько слов скажу про этих самых воров-то.
Страну сбросили в криминальный капитализм в 1993 году, поддержав курс Ельцина на «построение капитализма за пять лет». Причем в стране, советское прошлое которой определяло полное отсутствие некриминального первоначального накопления капитала.
Поддержав это, поддержали и другое — курс того же Ельцина на вхождение России в так называемое мировое, то есть западное сообщество. То есть на построение так называемого периферийного, неоколониального капитализма. Не только криминального, но и неоколониального капитализма третьего и четвертого мира.
Вот что лежало на весах на референдуме 1993 года. Вот что решалось тогда. И эти весы в определенную сторону склонил общественный выбор. В итоге страну сбросили и в регресс, и в так называемый криминальный элитогенез. И то, и другое длится десятилетиями.
Когда в таких условиях кто-то из элиты или ее обслуги начинает кричать про другого «вор, вор, вор!» и тыкать пальцем в зачастую далеко не выдуманные эксцессы, то это выглядит очень комично. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
Так же комично выглядят разговоры про российскую мафию. Десятилетиями говорю: у нас нет мафии. У нас есть новые формы социально-политической организации общества и элиты. Причем такие формы, что мафия отдыхает.
Я не спорю, в этом — наша очень горькая специфика. Но с каждым десятилетием я все более убеждаюсь в том, что противопоставлять нашу «воровскую пагубность» западному «правильному устройству» уже нельзя. Что сегодня это очень наивно.
Знакомые мне западные эксперты (тот же Стивен Коэн, например) прямо говорили о том, что Демократическая и Республиканская партии США поделили между собой глобальный рынок нелегальной торговли оружием. И что неприятности того же Бута связаны не со спецификой его деятельности, а с тем, что определенные западные политики (называются конкретные имена) подрядили его для нелегальной продажи оружия на тех территориях, где они в силу своей партийной привязки не имеют права работать. Они имели право на все эти — уж, конечно, ужасно не воровские — типы работы на Ближнем Востоке, а они сунулись в Африку. А туда они соваться не имели права. Потому что у них такая партийная привязка, что не имели права туда соваться. И это говорил Стивен Коэн. И не он один.
Десятилетиями специалисты, западные прежде всего, приводят доказательства тому, что такие-то элитные западные группы работают в связке с такими-то мафиями — вот эта группа с Коза Нострой, эта с Каморрой и так далее. Роль японских якудза в управлении крупнейшими японскими корпорациями обсуждается весьма респектабельными специалистами, японскими прежде всего, но и не только, с начала 1950-х годов. Можно было бы целый шкаф отвести, в котором бы размещалась респектабельная литература по этому поводу. Конфликты китайских триад и японских якудза обсуждаются столь же долго и на фактическом историческом материале.
Поэтому я позволю себе некое огрубленное, но отражающее действительность определение сути существующего у нас, да и не только у нас, состояния «элитного вещества». В таком грубом приближении, философском, политологическом и абсолютно не юридическом, можно сказать, что банды — это неотменяемая реальность нашего элитогенеза. И что обсуждать надо не то, кто именно интегрирован в эти банды, а кто нет. Обсуждать надо то, каковы банды и чем они отличаются друг от друга. И кто во что именно интегрирован. Причем на каких основаниях, каким способом и так далее.
Давно пора прекратить позорные перестроечные вопли об очищении элиты. Эти вопли всегда были лживыми. Потому что очищаться хотели от тех, кто никакого отношения к криминальной грязи не имел. И таких было немало.
Специалисты, занимающиеся прикладной теорией элит, знают, что такие очистители от криминальной грязи, как Гдлян и Иванов, уничтожали представителей рашидовской группировки и связанных с ними цеховиков, ну уж никак не брезгуя помощью настоящих стопроцентных воров в законе. И прекрасно понимая, что они осуществляют эти зачистки в интересах этих воров и их высоких комитетских покровителей.
Но, повторяю, в советской элите еще были совсем некриминальные люди. Как консервативные, так и либеральные. Возможно, такие люди есть и сейчас, но их намного меньше. И их позиции ослаблены до предела.
А значит, с поправкой на малые, хотя и существенные, величины, бандитизм — это наше элитное постсоветское «почти все».
Ну, а теперь главное.
Когда я говорю о «бандах» в кавычках и прочих, то имею в виду не нечто примитивное. Я не зря сказал, что «бандами» это можно назвать только в грубом приближении. Те, в кого тычут пальцем и именуют бандитами в строгом смысле слова, те, кто выходит на стрелку, участвует в разборках и так далее, — это не ядро элиты, а вспомогательное существенное звено. Более мощное на самом деле, чем бюрократия, но менее мощное, чем то, что находится в настоящем ядре.
Настоящее же ядро сформировалось в результате борьбы наших спецслужб с правящей коммунистической партией. У которой в момент апогея этой борьбы тоже было рыльце в пушку. Но спецслужбы хотели освободиться от партии в силу ее неотменяемой причастности к определенной идеологии. Спецслужбы же хотели не идеологической унылой однопартийности, которая связывала руки, ограничивала наживу, и мало ли еще что делала — защищала социальные низы в определенном смысле. Спецслужбы хотели матричной многомерной спецуправляемости, именуемой демократией. То есть того, что партии будут разные, а привязка у них будет в равной степени спецслужбистская.
Скинув партию под лозунгами «Партия, дай порулить!», «Даешь рынок и демократию!», «Даешь свободную политическую конкуренцию!» и так далее, спецслужбы оседлали процесс.
Много раз подчеркивал, что когда я говорю «спецслужбы», то я не имею в виду каждого офицера или генерала, подчас рискующего жизнью и в какой-то мере удерживающего внутриполитическую стабильность и международный баланс сил. Я имею в виду некое ядро спецслужб, разделенное на несколько групп. Или «внутренних партий». Недавно почил в бозе, пусть земля ему будет пухом, один из очень важных представителей одной из таких партий. Но партия-то осталась. Вот эти-то внутренние партии и рулят процессами как напрямую, так и через сугубо криминальные институты. А бюрократия на подхвате.
И когда определенные инструменты, используемые при разруливании, временно оказываются в тяжелом положении (один из таких инструментов опять оказался в таком положении), то это однозначно свидетельствует о конфликте между внутренними партиями. Такой конфликт может состояться в Красноярске или Москве, а также в любой точке нашего многострадального Отечества. И его надо рассматривать просто как знак чего-то большего.
Я очень хорошо относился, например, к руководителю нашей внешней разведки Леониду Владимировичу Шебаршину. Я знал его по советскому периоду. Тогда он был просто тонким, порядочным насквозь и очень профессиональным человеком. Причем нестандартно интеллигентным, что мне было тоже до крайности симпатично. Что произошло потом — не знаю. Хочу верить, что Леонид Владимирович таким оставался до своего смертного часа.
Но когда Леонид Владимирович вдруг сказал публично, что его этика — профессионализм, я был вынужден отреагировать. Потому что профессионализм спецслужбистов типа Шебаршина — этикой быть не может. Профессионализм этих людей заключается в том, чтобы убивать лучше нормальных бандитов, и их этому учат. Вскрывать сейфы лучше нормальных домушников, их этому тоже учат. В том, чтобы использовать людские пороки — опять-таки более эффективно, чем обычные бандиты. И так далее. Поэтому от бандитов таких людей (я имею в виду не скучную бюрократию, а людей дела) отличает не профессионализм, а служение.
Пока есть служение, то есть высший смысл, без которого патриотизм — пустое слово, такие люди интегрированы в некую смыслодеятельную корпорацию. А как только служение обрушивается, начинается регрессивный элитогенез, не зависящий в случае обрушения от ценностей каждого из этих конкретных людей и того, что они об этом думают. Он происходит как соединение химических веществ.
Его объективная основа, повторяю еще раз, в том, что если институты рушатся, неформальные связи только усиливаются. Должностная иерархия исчезает с обрушением институтов, а записные книжки остаются. И побратимство остается. Потому что опасность сближает. А люди, которых я обсуждаю, ну никак не лишены смелости и волевой хватки.
Ну, и что же порождается крушением институтов при сохранении неформальных связей? То самое, что мы имеем в ядре нынешней элиты. Эти самые внутренние партии.
Поскольку спецслужбисты неоднородны, то какая-то часть, лишившись служения, просто выпадает в осадок. И тоскует.
Какая-то часть начинает более или менее пассивным образом интегрироваться в новую жизнь, становясь, например, начальниками охраны или начальниками аналитических центров у тех, кто раньше был связан с ними агентурными связями.
А какая-то часть сплачивается более активно. И ждет, что будет дальше. Это ожидание не носит пассивного характера. Люди присматриваются, осторожно участвуют в игре, которую ведут оборзевшие так называемые «либеральные олигархи», в прошлом имевшие ту или иную агентурную привязку. Эти олигархи в принципе к сплочению не способны. А команда в итоге кроет класс. То есть в итоге волевая, не боящаяся рисковать и не поддающаяся унынию часть спецслужбистского сообщества склеивается в определенные неформальные структуры. И выметает поганой метлой этих самых эгоцентристов из либеральной олигархии. Вот в чем суть процесса.
Поначалу эта склейка происходит с ориентацией на тех, кто вел антисоветскую игру в советский период. А потом эти «динозавры» либо уходят из жизни (мир праху их), либо теряют прежнюю жизненную силу. И тогда их заменяют другие. Но суть не меняется.
В итоге формируется определенное ядро нашей постсоветской элиты. Поскольку прошлое всегда остается актуальным для подобного типа ядер, а новая жизнь тоже организуется вокруг определенных профессиональных матриц, то такое структурирование маркируется зыбкими — зыбкими, подчеркну еще раз — профессиональными разногласиями. Иногда преодолеваемыми, иногда имеющими риторический характер, а иногда существенными. Но, повторяю, все это очень зыбко.
И единственное жесткое слагаемое формируемых клановых идентичностей так или иначе подверстано к вопросу о государственности. Мы можем обсуждать всё только в увязке с этим вопросом.
Конечно же, речь идет о прагматической государственности, лишенной сверхдержавных идеологических заморочек.
Конечно же, доминирует нежелание портить отношения с победителями в холодной войне.
Конечно же, очень хочется вписаться в западный мир на равных правах с другими государствами. Поди ж ты, плохо — оказаться на равных правах с Францией, Германией! И сформировать единую Европу при явном преобладании своего ядерного оружия. Да эти люди и их начальники всю позднесоветскую эпоху только об этом и мечтали! И потому и скидывали КПСС. Кто-то хотел в Европу вцепиться посильнее, а кто-то считал допустимым создание единого атлантического пояса — войти в НАТО, обняться и с Европой, и с США. Ну сколько-то времени испытывать определенные неудобства, связанные с холодной войной. А потом все утрясается и начинается разумная просвещенная жизнь. В которой еще ох как можно будет развернуться. Такова была мечта.
Кто хотел Европу, кто эту самую единую Атлантику…
Но по поводу того, что идеал — это вхождение в западный мир, такое, другое, этакое, но вхождение — по этому поводу, повторяю, в нынешней элите спора нет. Спор идет только по поводу того, можно ли пожертвовать государственностью ради такого вхождения.
Одна часть элиты говорит: «Хватит. Уже пожертвовали Советским Союзом и не получили обещанного. Больше ничем жертвовать не будем».
Другая часть говорит: «Можно пожертвовать и большим, лишь бы войти. А там разберемся».
И опять же, все это не носит такого жесткого, проартикулированного, можно сказать, кристаллического характера. Все это аморфно, зыбко, основано на перетеканиях, умолчаниях.
Вот в чем мы реально живем. И эта жизнь есть наказание за апрельский референдум 1993 года. Именно тогда некая поселившаяся внутри общества, а не элиты только порча толкнула это общество в определенную сторону. Внутренне меняясь, что-то смутно осознавая, общество продолжает двигаться в ту же сторону на протяжении всех последовавших за тем апрелем десятилетий. И тут что 1990-е годы, что 2000-е, что 2010-е.
Двигаясь в эту сторону, общество слабеет и разрушается. Оно еще не умерло, но поскольку двигается в эту сторону, оно чудовищно повреждено. И либо данное повреждение будет вылечено, либо общество будет, двигаясь туда же, повреждаться все больше. И тогда оно будет добито до конца. И никакие надувания государственных щек тут не помогут. Хотя они, конечно, нужны, хочется приветствовать их. Но только, повторяю, поможет не надувание, а реальное развертывание в направлении, которое сейчас, к сожалению, носит не столь реальный, как хотелось бы, характер.