Капитарона. От кризиса избавит вторая биологическая война?
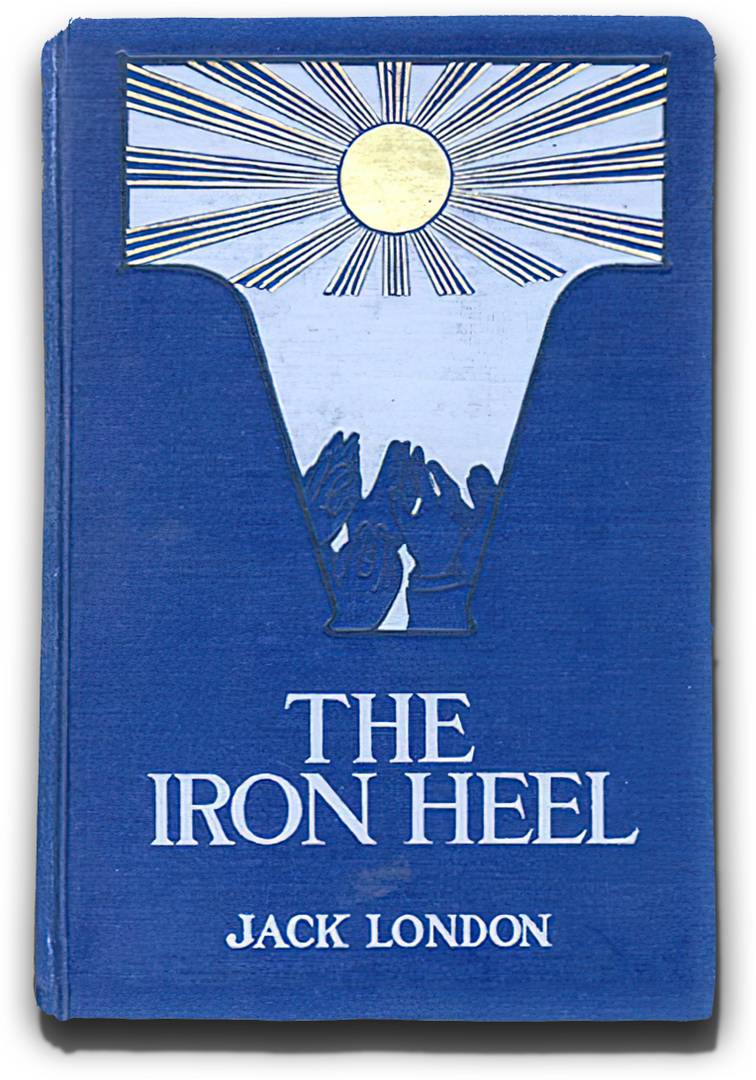
Я, конечно же, хочу говорить всё на ту же тему и буду говорить на нее достаточно твердо, но мне кажется, что очень многое будет бессмысленно, если мы безраздельно сфокусируемся (именно безраздельно) на некоторых, даже важнейших, частностях ― всё равно частностях, ― в рамках которых тема этого ковида и всего остального развивается, потому что не эти частности задают траекторию движения.
И для того чтобы обсудить что-то вначале не частное, я, как уже несколько раз делал, процитирую художественное произведение, но на этот раз не Достоевского ― гениального русского писателя, — а американского хорошего писателя Джека Лондона. Причем у него есть произведения художественно более яркие, а есть произведение такое, даже слегка назидательное, которое называется «Железная пята», но почему-то, как мне представляется, особо актуальное в эпоху ковида. Потому что я иногда всматриваюсь в то, что люди говорят по поводу ковида, и всё равно какое-то возникает такое ощущение: «Ну вы вообще!» ― то есть того, что всё это изумляет своею странностью, своей парадоксальностью, своей хаотичностью, своей контрпродуктивностью. Но что-то же за этим стоит!
То, что Джек Лондон написал в 1908 году в этом своем романе «Железная пята», представляет собой более откровенное и соотносящееся с близкими мне человеческими позициями изложение того, по поводу чего юлят все эти Шваб, Гейтс ― это мелкие фигуры ― или какие-то чуть более крупные. Не важно. Потому что откровенно-то еще сказать ничего нельзя.
Так вот, а вдруг я прав, и действительно в этом не лучшем произведении, повторю, в этом дидактичном, поучительном, полуполитическом манифесте ― полухудожественной прозе сказано что-то о сегодняшнем дне? Прошло, между прочим, уже более века, и странно искать, казалось бы, в таких источниках ответы на какие-то вопросы, но в Достоевском же искали и что-то нашли. Так вот, мне кажется, что обращение в данном случае к Джеку Лондону далеко не лишнее.
Глава, которую я зачитаю, называется «Математическая непреложность мечты».
Разговор ведут некий пропагандист коммунистических социалистических идей Эрнест, описанный Джеком Лондоном как сверхчеловек, человек будущего и какие-нибудь представители средних классов, которые чувствуют, что кто-то их сильно поджимает, а кто и что, не понимают. И хотят как бы просто протестовать против каких-то новых тенденций, но Эрнест им говорит: давайте обсудим, что за тенденции.
«Сперва, — говорит Эрнест, обращаясь к этим представителям среднего класса, — я докажу вам, что капиталистическая система обречена на гибель. Докажу с математической непреложностью. И прошу вас не сердиться, если вам покажется, что я начал несколько издалека».
Я тоже, со своей стороны, прошу зрителей этой передачи не сердиться. Вернемся мы к ковиду ― так, что мало не покажется.
«Прежде всего, разберёмте, ― говорит Эрнест, ― с вами конкретный пример из области промышленности, и как только вам что-нибудь покажется спорным, прошу меня остановить.
Возьмем обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожи на сто долларов. Пройдя через фабричный процесс, кожа эта превращается в обувь стоимостью, скажем, в двести долларов. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось сто долларов. Как это произошло? Давайте рассудим.
Вновь произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере ста долларов. Пока нет возражений?»
Все представители среднего класса заявляют Эрнесту, что возражений нет. Эрнест продолжает: «Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят ее между собой.
Отвлечемся от сложных соотношений, какие дает статистика, и возьмем для удобства круглые цифры. Положим, капитал берет себе пятьдесят долларов и столько же отдает рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при этом возникают. Каковы бы они ни были и к чему бы ни приводили, дележ ― так или иначе, в том или другом процентном соотношении ― производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны?»
И вновь все представители среднего класса, возмущенные теми процессами, которые рождает олигархия, или плутократия, ее еще тогда так называли, говорят, что пока что они согласны.
«Допустим теперь, что рабочие, получив свои пятьдесят долларов, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви, не правда ли?
Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всей американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее.
Опять-таки для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на четыре миллиарда долларов. За этот период рабочие получат два миллиарда долларов заработной платы. Всего же произведено промышленных товаров на четыре миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих, в действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране.
Итак, повторяю. Рабочие могут приобрести и потребить товаров на два миллиарда. А это значит, что останется еще излишек товаров стоимостью в два миллиарда, который рабочие не в состоянии купить и употребить.
― Рабочие не проживают даже и своих двух миллиардов, ― отозвался мистер Коуолт».
Это один из представителей среднего класса, который зашел поговорить с Эрнестом, но говорить с ним не с позиции Эрнеста, а отстаивая некое свое ретро, старую Америку и приоритет среднего класса над плутократией, что, кстати, сейчас достаточно модно.
Итак, «… рабочие не проживают даже и своих двух миллиардов, ― говорит Коуолт. ― Иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы.
— Вклады рабочих в сберегательные кассы ― это не более как подвижной резервный фонд, который тут же и расходуется по мере накопления. Это деньги про черный день, на случай болезни или инвалидности, это сбережения на старость и похороны.
Вклады в сберегательную кассу ― всё равно, что краюха хлеба, отложенная на полку, чтоб было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на свои заработки, ― говорит Эрнест. ― На долю капитала тоже приходятся два миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну, а там — израсходует ли он основную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживет ли он целиком свои два миллиарда? — (Которые заработал.)
Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой. И только один откровенно признался:
― Не знаю.
― Ну как не знаете? ― возразил Эрнест. ― Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибылей, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли. Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? Постепенно Америка выкупила эти облигации. <…> А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских и греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибылей.
Но тут-то мы и подходим, ― говорит Эрнест, ― вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на четыре миллиарда. Рабочие употребляет товаров на два миллиарда. Капитал не покупает товаров на всю причитающуюся ему долю прибыли. Остается свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? Куда его девать? Рабочие не могут раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил всё, что способен потребить. И всё же остается излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают?
― Вывозят за границу, ― догадался мистер Коуолт.
―Вот именно, ― подтвердил Эрнест. ― Наличие товарных излишков приводит к поискам иностранных рынков. Их вывозят за границу, другого применения им нет. И эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений?»
Джек Лондон всё это же не сам выдумывает, тут идея Розы Люксембург и идея многих из теоретиков социализма, которые говорили, что вопрос не только в том, как будет бороться пролетариат ― это одна половина, ―, а в том, что сама капиталистическая система, даже если пролетариат бороться не будет, всё равно начнет загибаться.
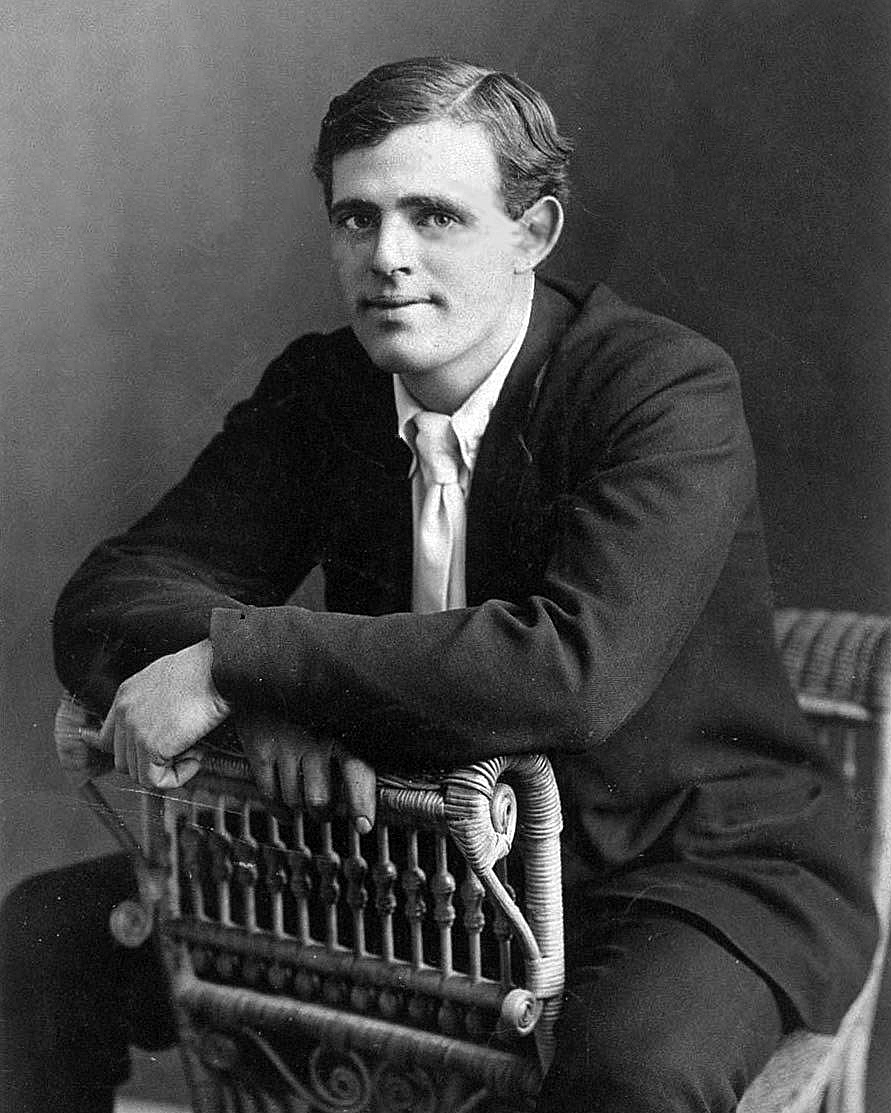
«Не стоило тратить время на преподавание нам этих азов коммерции, — съязвил мистер Коуолт. ― Они каждому из нас известны (это очень актуальная и сейчас позиция! ― Прим. С. К.).
― А между тем этими азами я и собираюсь вас доконать, ― отпарировал Эрнест. ― Чем проще доказательства, тем они убедительнее. И доконать я вас собираюсь нимало не медля.
Итак, внимание!
Соединенные Штаты ― капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При ее капиталистическом методе производства у нее постоянно остается избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо избавиться путем вывоза их за границу. Но то, что верно относительно Соединенных Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить; капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем у этих стран имеются товарные излишки. Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров?
― Продать их странам с менее развитой промышленностью, ― подсказал мистер Коуолт.
― Правильно! — говорит Эрнест. — Видите, мои рассуждения так ясны и элементарны, что каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью, например, в Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишков производства. Итак, что же получат Соединенные штаты от Бразилии за эти товарные излишки?
― Золото, ― ответил мистер Коуолт.
― Ну, на золото не шибко расторгуешься, не так уж его много, ― возразил Эрнест.
― Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг, ― поправился мистер Коуолт.
― Совершенно верно, ― сказал Эрнест. ― Соединенные Штаты получат от Бразилии облигации и другие ценные бумаги. А что это означает? Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединенных Штатов. А что это означает, в свою очередь?
Мистер Коуолт подумал и покачал головой.
― Я скажу вам, ― продолжал Эрнест. ― Это означает, что и Бразилия начнет разрабатывать свои ресурсы, а стало быть, и у нее появится свободный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его Соединенным Штатам? Нет, Соединенные Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединенные Штаты, как раньше, сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение.
Что же тогда произойдет? И Соединенные Штаты, и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются всё теми же, то вскоре и эти страны начнут развивать свои ресурсы. И у них также появится избыточный продукт, и они также начнут искать рынков, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Наша планета не безгранична. Существует лишь определенное число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт?
Эрнест остановился и обвел взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать перед ними яркое видение кризиса, и все они сидели как завороженные, со страхом заглядывая в будущее.
― Я начал с азов, мистер Кэлвин, ― лукаво продолжал Эрнест, ― но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита, до самой последней. Как видите ― всё это очень просто. Но чем проще, тем убедительней, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так как же? Если каждая страна в мире будет иметь свой избыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой?
Но мистер Кэлвин только озабоченно покачал головой. Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, ища в них скрытую ошибку.
― Давайте проверим еще раз ход моих мыслей, ― сказал Эрнест. ― Мы начали с конкретного, частного случая, с обувной фабрики. Мы установили, что дележ вновь произведенной стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа ее во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему доли. Мы обнаружили к тому же, что, когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки ― это вывезти их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов и что в скором времени у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается, что нам делать с этими излишками?
Снова никакого ответа.
― Мистер Кэлвин!
Мистер Кэлвин развел руками.
― Признаюсь, я смущен.
― Вот уж не думал, ― сказал мистер Асмунсен. ― И ведь всё как будто верно, ничего не скажешь.
Мне еще не приходилось слышать о Марксовой теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил ее так просто, что я была поражена не менее других».
Это возлюбленная Эрнеста, его супруга, которая присутствует и от лица которой рассказывается в романе.
«Я скажу вам, как можно избавиться от этих излишков, ― заявил наконец Эрнест. ― Выбросьте их в море! Выбрасывайте ежегодно на сотни миллионов долларов обуви, платья, пшеницы и всяких других товаров. Разве это не выход?
― Выход, конечно, ― отвечал мистер Кэлвин. ― Но только нелепый выход. Странные вы даете советы.
Эрнест вихрем налетел на него.
― Поверьте, не более странные, чем даете вы (а он дискутирует с теми, кто хочет вернуться к доброму старому прошлому. ― Прим. С. К.), разрушители машин, зовущие человечество к допотопным порядкам наших предков. А вы что предлагаете, чтоб избавиться от товарных излишков? Вы предпочли бы вовсе их не производить? Но как же вы надеетесь этого добиться?
Не возвратом ли к примитивной системе производства, столь несовершенной, хаотичной, расточительной и дорогой, что ни о каких излишках уже не пришлось бы и мечтать?
Мистер Кэлвин пожевал губами. Удар Эрнеста попал в цель. Он снова пожевал губами, потом откашлялся.
― Ваша правда, ― сказал он. ― Вы убедили меня. Конечно, это в высшей степени нелепо. Но ведь что-то нам нужно делать. Для нас, представителей средних классов, это вопрос жизни и смерти. Мы не хотим своей гибели. Нет, уж чем погибнуть, лучше возвратиться к кустарным и расточительным методам наших предков. Мы вернем промышленность к дотрестовским временам! Мы сломаем машины! Кто может запретить нам?
― Нет, вы не сломаете машины, ― возразил Эрнест. ― Вы не повернете жизнь вспять. Вам противостоят две великие силы, и каждая из них превосходит мощью вас, средние классы. Крупный капитал ― иначе говоря, тресты ― не позволит вам повернуть историю назад. Уничтожение машин не в его интересах. Но еще более великая, могучая сила ― рабочий класс. Он не допустит уничтожения машин. Между трестами и рабочим классом идет борьба за овладение миром, а следовательно, и машинами. Такова военная диспозиция. Ни одна из сторон не заинтересована в уничтожении машин, но каждая стремится владеть ими. В этой борьбе нет места среднему классу. Средний класс ― это пигмей между двумя великанами. Разве не видите вы, злополучный, обреченный средний класс, что вы зажаты между двумя жерновами и рано или поздно вас раздавят!_
Я доказал вам, как дважды два ― четыре, что гибель капиталистической системы неизбежна. Настанет время, когда у каждой страны в мире окажется избыток товаров, который нельзя будет ни употребить, ни продать, и капиталистический строй рухнет, раздавленный системой головокружительных прибылей, которую он же и породил».
Вот в этом была неомарксистская школа, Роза Люксембург не главная, но наиболее ярко она говорила про всё это: про этот вывоз в колонии и так далее. А там было много таких людей, которые говорили, что дело не в том, как именно пролетариат засучит рукава ― то есть это очень важно, никто не спорил, а вопрос в том, что как только эта система мировая станет достаточно гомогенной ― не будем так уж зацикливаться на выражениях этого Эрнеста и том, что он описывает, а просто она гомогенизируется до конца и грабить будет, грубо говоря, некого ― то она и рухнет.
«Но и тогда никто не станет уничтожать машины. Борьба будет вестись за то, кому ими владеть. Если победит рабочий класс, вам нечего бояться. Соединенные Штаты, да и весь остальной мир вступят в новую великую эру. Машины, вместо того чтобы истреблять жизнь, сделают ее прекраснее, счастливее, благороднее. И вы, обломки уничтоженного среднего класса, вместе с трудящимися, ― так как в мире не останется никого, кроме трудящихся, ― будете участвовать в справедливом распределении благ, созданных чудесными машинами. Потому что мы будем изобретать всё новые и новые машины, одна другой чудеснее. С уничтожением системы прибылей сам собой отпадет вопрос о товарных излишках.
― А если битву за овладение машинами и всем миром выиграете не вы, а тресты? ― спросил мистер Коуолт.
― Тогда, ― отвечал Эрнест, ― и вы, и мы, и весь рабочий класс будем раздавлены железной пятой деспотизма, не ведающего удержу и жалости, ― деспотизма, какого не знала доселе ни одна, даже самая темная эпоха в жизни человечества. Вот имя для него ― Железная пята!
Наступило долгое молчание. Каждый погрузился в глубокие, непривычные думы.
― И всё же ваш социализм ― мечта, несбыточная мечта! ― сказал мистер Коуолт», — представитель среднего класса.

Дальше там говорится о многом: и о плутократии, и как она будет двигаться, и что она будет строить, ― большое произведение. Я здесь хотел сказать, что, возможно, идеи Джека Лондона в чем-то устарели, возможно, мир намного сложнее и даже наверняка, возможно, к этой модели приделано много дополнительных устройств и так далее. Но сущность ее от этого не меняется.
А соответственно, и «железная пята» на горизонте ― это не выдумка. Даже с точки зрения чисто экономических аспектов, которыми, конечно, всё не исчерпывается.
Повторю еще раз: я не апологет модели Эрнеста и Джека Лондона. Я привожу ее как простейшую из тех моделей, которые говорят о том, что глобальный капитализм, став глобальным, может захлебнуться в собственных успехах, что он не в состоянии будет пережить свои собственные успехи ― вот вся идея, которая здесь звучит.
Всё остальное: обувь, деньги, перекачки и всё прочее ― может сто раз модифицироваться, могут добавиться суперновые средства производства, можно добавить информационные сферы или еще что-нибудь, не важно.
Но это остается. Остается принцип системы, выстроенной так, что она может захлебнуться не в противодействиях ее противников, а в собственных успехах.
И это уже начало происходить в 2008 году, как-то это залили деньгами и так далее и тому подобное. Уже тогда начали обсуждать: а что же дальше?
И вот здесь я от очень простых вещей, которые я специально цитирую в этом виде, потому что мне и хотелось, чтобы они были простенькие-простенькие, перехожу к чему-то более сложному и гораздо более трудно доказуемому.
В связи с наличием коммуны и всем тем, что я связываю для себя с нею, мои временны́е возможности уполовинились. Я не могу уже так часто вступать в коммуникацию с людьми в разных странах мира, как я мог. Это же не значит, что я вообще не вступаю в эти коммуникации. А я же не один. Как говорил когда-то один мой знакомый: «У вас есть довольно узкий и влиятельный круг ваших горячих почитателей». Уж не знаю, насколько он влиятельный, но точно узкий. Не знаю, насколько почитатели горячие, но так почему-то всегда происходит, что когда дело плохо, то вот эта система коммуникаций, помноженная на мои собственные возможности, вдруг оказывается источником какой-то нетривиальности.
Та нетривиальность, которую я буду сейчас обсуждать, была изложена и мне, и моим достаточно влиятельным знакомым лицами, относящимися к высшей глобальной страте. Кстати, я должен сказать, что если внимательно читать все эти документы, включая Римский клуб и прочее, то ведь примерно то же и получается, но просто более усложненно и больше слов накручивается вокруг того, что я только что прочитал у Джека Лондона.
Сколько туману напускают на эту простоту и сколько виньеток организуют ― их все больше и больше. И каждый раз, когда туману много, и виньеток много, то можно сказать: с одной стороны, эти виньетки так важны, что всё сразу меняется; с другой стороны, всё в таком тумане, что как это вы всё можете вывести ― не важно.
Важно другое. Важно то, что беседы на некую тему, которую я хотел бы сейчас обсудить, переходя от художественной литературы к политической практике, начались в 2018, точнее в 2017 году. И уже тогда в определенных узких, но крайне влиятельных сферах обсуждался именно тот вопрос, который Джек Лондон обсудил в этом самом 1908 году: мир становится гомогенен. На другом языке это обсуждают, более усложненно, с какими-то комбинациями: мир становится настолько гомогенен, что вся эта социально-экономическая система захлебывается в своих собственных отходах и шлаках. Не экологических, а других, принципиальных. «И есть две возможности, ― говорили мне и мои собеседники, и собеседники тех, с кем я нахожусь в достаточно доверительных отношениях (я хочу подчеркнуть, что эти собеседники относились к высшей лиге, еще раз это подчеркиваю). ― Значит, у нас, ― говорили они, ― есть две возможности: развязать мировую войну всерьез или радикальным образом перестроить вот эту систему, освободить ее от необходимости захлебнуться в собственных успехах».
И несколько раз, когда я спрашивал или мои друзья спрашивали: «А как вы собираетесь это делать?» — вдруг возникала какая-то повторяющаяся очень жесткая мысль, что «мы это сделаем через пандемию». При этом никакой пандемией еще не пахло, близко ее не было.
«Но… (вот теперь я перехожу от вещей достаточно простых к чему-то более сложному) эту пандемию надо будет разыгрывать в две фазы. Сначала создать фазу мягкую, и внутри этой мягкой фазы всё прозондировать. Вирус сделать не слишком убойным, но уже достаточно опасным. Как бы гайки все не закручивать еще в системе, пусть кто-то как-то возникает, зато мы прозондируем всех, кто возникает, и это первая фаза.
А во второй фазе… (поразительно то, что почти в одних и тех же словах это говорили разные люди, не из России) а во второй фазе долбанем боевым вирусом. Всё ляжет, мы гайки завинтим до предела, возникнет совершенно новая социально-экономическая система в целом, а вот переделав ее, мы с чем-нибудь разберемся».
Вот это то, о чем говорит Эрнест у Джека Лондона (не путать с другими персонажами с таким же именем!) ― он об этом говорит: либо социализм, либо такая диктатура, которой не знали никакие темные века, даже темнейшие, которая не будет знать себе равных по свирепости, по всему остальному. И она оформит новую социально-экономическую систему, а заодно культурную, идеологическую и прочую. Эти две фазы.
И вот я вдруг слышу от господина Рошаля ― человека вполне, как мне представляется, способного к какой-то аналитической и прогностической деятельности, ― я слышу, что всё, что связано с ковидом, SARS-CoV-2, это репетиция будущей биологической войны. Тут главное ― слово «репетиция».

Я вовсе не хочу сказать, что разделяю позицию господина Рошаля по всем вопросам борьбы с коронавирусом, отнюдь. Нет, скорее, наоборот. Но вот то, что он сказал вначале, привлекло мое внимание, как бы вошло в какой-то резонанс с тем, что я слышал задолго до всего этого действа, связанного с ковидом.
«Известный детский врач Леонид Рошаль рассказал в интервью Forbes о российском опыте борьбы с коронавирусом, выводах, которые он делает из официальной статистики, готовности отечественной медицины к вспышкам инфекции и методах защиты от вируса».
Forbes цитирует Рошаля: «Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны».
Дальше господин Рошаль оговаривает, что он-то в принципе не считает рукотворным этот вирус, но что его интуиция биологической войны опирается не на эту рукотворность, а так, на все общие тенденции.
В любом рациональном до конца аналитическом процессе я бы на это высказывание господина Рошаля не обратил особого внимания. Он думающий живой человек, у него есть какая-то точка зрения, ее надо уважать, и она вполне может быть вот такой спонтанной, ни на что не опирающейся. Но всё, что происходит, и всё, что я знаю о происходящем не из информационных сводок, а из других источников, подсказывает мне, что сегодня замыкаться в чистом скептическом аналитическом рационализме так же опасно, как начинать давать волю художественной фантазии и говорить про мировые заговоры и про всё прочее. Всё должно происходить где-то посередине.
И я, кстати, никоим образом не упрекаю господина Рошаля, чья позиция мне чужда по вопросу ковида, в том, что он там… какой-то субъект мирового заговора. Это просто смешно. Он мог что-то слышать, а мог не слышать и просто выражать свое личное мнение по принципу «что-то непонятное в воздухе».
Так вот, я считаю, что не надо пренебрегать этим давним высказыванием господина Рошаля. Не надо шить всё время лыко в строку, но не надо пренебрегать всем этим.
А теперь представьте себе, что мои собеседники и собеседники моих собеседников говорят правду ― только представьте! Возьмите это на вооружение в качестве достаточно эфемерной гипотезы, а не железного конспирологического проекта. Вот если это так, то, наверное, надо многое пересмотреть в том, что связано с вакцинацией и всем прочим. Или по крайней мере надо внимательнее к этому присматриваться. Потому что, когда наступит вторая фаза, присматриваться будет поздно. Я никоим образом не абсолютизирую этот сценарий развития событий. Я рассматриваю его как проблематичный, не до конца обоснованный, отчасти умозрительный, но ведь только отчасти.
Во-первых, я всё-таки на что-то опираюсь, а во-вторых, в таких вариантах, когда всё так странно ―, а всё очень странно ― интуицией тоже пренебрегать не надо.
Ну, а вот теперь, если это так, давайте-ка на что-то посмотрим.
Вот нам сообщают про боевые микробы и о том, что Россия подозревает США в подготовке биологической войны. Просто подробно обсуждается то, что происходит на этих базах:
- что это за насекомые, которые должны куда-то ползти так, чтобы потом начинались какие-то особые неприятности с заболеваниями;
- что в принципе уже известно по этому поводу;
- что начинают замечать, в том числе в части каких-нибудь других заболеваний, по югу России, например;
- как странно расположена конфигурация всех этих биологических баз.
И опять подымается тема биологической войны, то есть биологической войны без дураков.
А вот говорится о насекомых-союзниках. Создают ли США биологическое оружие под видом научных проектов?
И кто про это говорит? Говорят про это вполне себе авторитетные ученые, сотрудники Университета Монпелье (Франция), института эволюционной биологии Макса Планка (Германия), Фрайбургского университета. Они говорят о конкретном проекте этих насекомых-союзников, они настаивают на том, что это всё не выдумки, это всё реальность, они выражают по этому поводу свою обеспокоенность.
Ну какие у нас основания считать, что разговоры серьезных людей по поводу биологической войны совсем уж ничего не стоят? А между прочим, если присмотреться к этому таким образом, то ведь многое из того, что сейчас происходит, заиграет иными красками.
Вот еще один материал. Ряд авторов говорит о концептуальных основах биологической безопасности и перечисляет там массу моментов, которые будут актуальны в связи с настоящим началом биологической войны: искусственное распространение биологических средств путем контаминирования продуктов питания и воды на конечных стадиях распределительной цепочки, микрокапсулирование биологических средств как способ повышения устойчивости объектов к окружающей среде, придание возбудителям устойчивости к антибиотикам и противовирусным препаратам, создание технологических линий по производству биологических средств, искусственное распространение биологических средств путем загрязнения продуктов питания, воды и пищи, распространение биологических средств в виде порошка-аэрозоля, получения вируса посредством синтеза, снижение эффективности вакцинных препаратов, модификация с целью повышения вирулентных свойств возбудителей инфекционных болезней, придание непатогенным для человека микроорганизмам свойств вирулентности, повышение трансмиссивных свойств патогенов, повышении инфекционных свойств патогенов, инсерция, то есть генетическая мутация, при которой в последовательность ДНК происходит вставка другой последовательности, инсерция генома хозяина с целью модификации иммунного ответа, создание новых патогенов, повышение стабильности патогенов…
Много всего, много. И, конечно, хочется, прошу прощения, всё это послать куда подальше и сказать: есть тяжелое заболевание, его надо лечить, с ним надо бороться, что-то в этих методах борьбы неверно, что-то порождено корыстью, что-то хаосом или внутренней разболтанностью системы, которая гордится своей административной устойчивостью, не обладая оной, что-то, возможно, какими-то процессами. Но это всё тем не менее не первая фаза, за которой последует вторая, как-то очень умело сочетаясь, а самодостаточный процесс, с которым надо справиться, пережить и жить дальше.
Мне так же, как всем остальным, хочется, чтобы всё обстояло так. Я знаю, что огромная ― уже под восемь миллиардов ― система под названием «человечество» очень инерционна и преисполнена своих незамысловатых желаний. И это так. Я знаю, что все эти претенденты на роли абсолютных хозяев и управителей процессов в основном надувают щеки. И поэтому мне бы хотелось жить и работать, не ожидая второй фазы.
Но я отвечаю за людей. В каком-то смысле, занимаясь аналитической деятельностью, я отвечаю не только за тех, кто прямо вверил мне свою жизнь, ― а их немало, ― а еще и за свой народ, свое общество, свою страну. Совершенно не собираюсь абсолютизировать свое значение во всем этом, но гражданскую ответственность никто не отменял, а научную и аналитическую тем более. Значит, я должен рассматривать эту гипотезу, в том числе и потому, что некоторые части происходящего могут быть интерпретированы иначе в случае, если вторая фаза близится. Ну и наконец, если она близится ― а я не думаю, что она приблизилась вплотную, тут еще первую надо доиграть, и внутренних конфликтов много…
Липочка, героиня пьесы Островского «Свои люди ― сочтемся», говорила: «Страм встречаться со знакомыми, в целой Москве не могли выбрать жениха ― всё другим да другим. Кому ж не обидно будет: все подруги с мужьями давно, а я словно сирота какая!» Наверное, оборонному комплексу обидно, когда всё время биология и биология, биология и биология, а как быть с другими сферами? Еще есть другие отрасли, которым тоже обидно. И очень велико расхождение интересов, и очень много сил, готовых сыграть на этом конфликте интересов. Так что я не могу сказать, что для меня концепция второй фазы является абсолютной. Но я должен присматриваться, потому что за что-то отвечаю. И не имею права скрывать такой возможности, потому что, опять-таки, за что-то отвечаю.
А если это всё так, то России необходимы сумасшедшие усилия по переделке здравоохранения. Мы должны быть готовы обеспечить жертв инфекции современными полноценными средствами борьбы с инфекцией, в современных полноценных госпиталях, и сделать это мы должны в совершенно другом количестве, чем это сейчас происходит.
Если бы я твердо знал, что вторая фаза неподалеку, то я бы посоветовал наплевать на всё и построить как минимум десятки тысяч, а возможно, и сотню тысяч современных инфекционных больниц, замкнув это всё на медицину, которая по своей сути была бы военной.
Возможно, это должны быть совершенно отдельные войска, возможно, это должно быть как-то иначе, но все замечательные проекты и все, так сказать, представления о потреблении и счастье должны в этом случае быть отодвинуты на второй план.
Нам нужна в этом случае ― и только в этом! ― стремительная мобилизационная система, которая потребовала бы неслыханных усилий и вложений. Весь вопрос в том, чтобы не промахнуться, чтобы не клюнуть на наживку, на какую-то такую фиктивную угрозу, которая поволочет не туда, поэтому я говорю об этом очень осторожно и гипотетически. Но я не могу совсем об этом не говорить. Я перестал бы уважать себя, если бы этого не сделал. А уж кто что услышит ― это дело совсем другое и, кроме того, нужно иметь совсем другой объем данных, нежели тот, которым располагаю я и мои ближайшие собеседники для того, чтобы рискнуть на какие-то большие изменения. И уж точно, что эти изменения не имеют ничего общего с сегодняшними конвульсиями. Это про другое. Конвульсии ― это разминка второй фазы, а преодоление второй фазы требует преодоления конвульсий тоже.
К этому я и перейду.
Я вспоминаю конец 80-х годов ХХ века, когда уже приходилось противостоять определенным тенденциям, поразительно схожим по своей типологии и психологическому накалу тому, что я сейчас вижу. Тогда это называлось борьба рыночников с антирыночниками, теперь это называется борьбой ваксеров с антиваксерами. Кто не помнит, как боролись рыночники с врагами рыночной системы, мог бы постараться вспомнить.
Я беседовал по этому поводу тогда с одним моим близким знакомым — и умевшим убедительно говорить, и знавшим экономику раз в сто лучше, чем я, и наделенным определенным авторитетом.
Я говорю: «Что ты молчишь? Ну что они делают? Ну, предположим, я лично вообще считаю, что очень тонкая и хорошо налаженная плановая система без всякого рынка и должна существовать. Что люди должны быть скромно, хорошо одеты, у них должны быть хорошие здоровые продукты питания и всё прочее, а всё остальное они должны посвятить творчеству или даже каким-то видам отдыха и всего прочего, которые не потребуют никакой рыночной инфраструктуры».
Это я тогда говорил, я уже понимаю, что поздно, поезд ушел, тяга к тому, чтобы на ста сортах лифчиков были нашиты разные кружева и будут какие-то сто фиктивных сортов сыра и так далее ― слишком высока, уже ополоумели.
«Ну ты-то поддержи меня, ты скажи этим людям, так называемым рыночникам, что есть вещи, которые рынок делать не может, ну не может совсем».
Структурная модернизация может осуществляться в рыночной среде и при ее частичном воздействии, но осуществляется она государством. И говорят это не коммунисты.
Это сказал Кейнс, который эту дерегулированную мировую капиталистическую систему вытянул из того состояния, в котором она была, а он вытягивал ее, ссылаясь на советский опыт. Это сказали другие соратники Рузвельта и не только Рузвельта.
В конце концов, об этом же сказал ― уже не во времена Кейнса, а гораздо позже ― нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. «Ревущие девяностые. Семена развала». У нас это вышло в 2005 году. Я зачитаю маленький кусок:
«Одной из областей моих постоянных интересов является адекватная роль государства в нашем обществе, и более конкретно, в нашей экономике. За несколько лет до переезда в Вашингтон я написал книгу «Экономическая роль государства» (The Economic Role of State), в которой попытался изложить свои взгляды на соотношение ролей государства и рыночного механизма, основанные на силе и слабости того и другого. Я попытался выделить некоторые общие принципы, согласно которым государство должно что-то делать и от чего-то воздерживаться.
После того как в течение восьми лет я наблюдал государство в непосредственной близости, мне захотелось вернуться к этой теме. Анализ девяностых годов дал мне возможность это осуществить: успехи администрации Клинтона можно частично приписать тому, что в некоторых областях правильный баланс между рынком и государством был найден, баланс, потерянный в десятилетия Рейгана и Тэтчер; но наши провалы ― некоторые из них обнаружились только за пределами девяностых ― могут быть частично отнесены на то, что в других областях этот баланс нами был установлен неверно.
Шла битва идей между сторонниками минимальной роли государства и тем, кому государство видится играющим важную, хотя и ограниченную, роль, корректирующую провалы и ограниченность рынка, и кроме того, обеспечивающим социальную справедливость. Я принадлежу ко второму лагерю, и эта книга имеет целью объяснение того, почему я убежден, что несмотря на то, что в центре успехов нашей экономики находится рыночный механизм, рынки далеко не всегда бесперебойно организуют сами по себе процессы и поэтому они не могут одни решить все проблемы и всегда будут нуждаться в государстве, как в важнейшем партнере».
Это Нобелевский лауреат говорит, хотите ― прочитайте эти «Ревущие девяностые», хотите ― «Общую теорию занятости, процента и денег» Кейнса, хотите ― «Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой».
Я говорил это тогда моему гораздо более компетентному и авторитетному, чем я, другу. Я тогда еще только начинал свои первые политические шаги, а он мне говорил: «Это табун, это табун людей, усвоивших „два притопа, три прихлопа“, поверивших в это как в абсолютную истину, подменяющих мозг и сложности размышлений примитивом и экстазом. Это огромный табун. Ты им сейчас вякнешь ― они тебя сомнут и всё. Они тебя растопчут. Не делай этого».
Я говорю ему в ответ на это: «Но ведь все понимают, что крупные изменения структурного контура промышленности, переход от индустриального к постиндустриальному и так далее рынок не осуществляет. Ведь не только Кейнс или Стиглиц, но все понимают, что иначе не происходит».
Он мне говорил: «Тем, кто сейчас входит в табун, плевать на то, о чем рассуждал Кейнс или кто-нибудь еще. У них есть свои авторитеты, и они прут».
Я говорил: «Но если они так попрут, и мы не попытаемся даже их остановить, они сметут двадцать, тридцать самых существенных отраслей народного хозяйства. Они не переведут их на рыночные рельсы, они их просто растопчут».
Он говорит: «А что ты уже можешь поделать? Потом будем восстанавливать».
Я говорю: «Ну так же нельзя!»
На этом мы разошлись. Я начал что-то «лепетать» по поводу Кейнса и других, был назван свирепым антирыночником. В ответ на это ― «два притопа, три прихлопа», все вопли о всеобъемлющем рынке.
Ельцин говорил, никогда не забуду: «И когда заработают дремлющие силы рынка…» Такое было ощущение, что под землей где-то ― «дремлющие силы». «Да, нас спасет только рынок» и так далее.
Невозможно было убедить этих рыночников, что на самом деле они ничего не понимают. Что они могли бы прочитать ну пять-десять книжек, что они могли бы посмотреть чуть-чуть направо, налево (а не вот так, в эти шоры), что мир устроен иначе. Что капитализм устроен иначе ― в Соединенных Штатах, во всем мире. Они ничего не хотели. В этом мой знакомый был прав. Это был табун.
Пер табун очень энергичных людей, освоивших заклинания, превративших примитивные книги по экономике рынка в религиозные произведения, взявших оттуда мантры, вопящих по поводу этих мантр и двигающихся так, чтобы растоптать всё.
Как говорил великий поэт Александр Блок:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы ― дети страшных лет России ―
Забыть не в силах ничего.
Я вот не могу забыть этого рыночного табуна: простых людей, очень брутальных, жизненных, которых кто-то подстегивал, чтобы они туда шли. При этом те, кто все понимал, усмехались. Джеффри Сакс приехал сюда какие-то реформы проводить, посмотрел на то, что происходит, говорит: «Не-не, я в этом участвовать не буду, это что-то совсем другое, это какие-то сумасшедшие».
Вы считаете, что мы всё это полностью преодолели? К сожалению, нет. Если говорить не о биологической войне, а о других войнах (а они маячат по всему нашему периметру), то у нас делаются отдельные шаги по воссозданию каких-то жизненно необходимых отраслей машиностроения, промышленности в целом. Но это очень осторожные шаги, которые всё время ориентированы, с одной стороны, на какое-то восстановление, а с другой, на этот мировой рынок и на всё прочее. Мы можем оказаться в тяжелейшем положении.
Но я сейчас хотел говорить не об этом, а о том, что такое принцип табуна.
Табун ― это большое число очень страстных людей, разогретых, которые знают не так уж много, но что-то выучили наизусть, считают себя избранниками божьими и обладателями абсолютной истины, а всех остальных ― врагами народа. Вот он сейчас прет, как никогда. Почему он так прет во всем мире, ― это отдельный вопрос. Это один и тот же многоликий табун. Но он прет.
Что там происходит между Си Цзиньпином и комсомольцами ― это отдельный вопрос. Я просто вижу этот напор и не могу не сопоставить его с тем, что слышу в очень конфиденциальных обсуждениях по поводу двух фаз биологической войны, а также по поводу «железной пяты» и переустройства мира. И если бы не всё это, то о многом из того, о чем я буду сейчас говорить, я, может, и не стал бы говорить.
(Продолжение следует.)
















