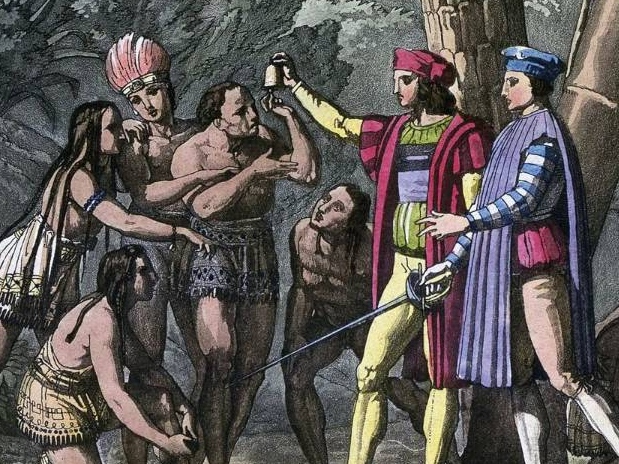Цифровая мутация семейной политики. О пермской ювенальной системе «Траектория»
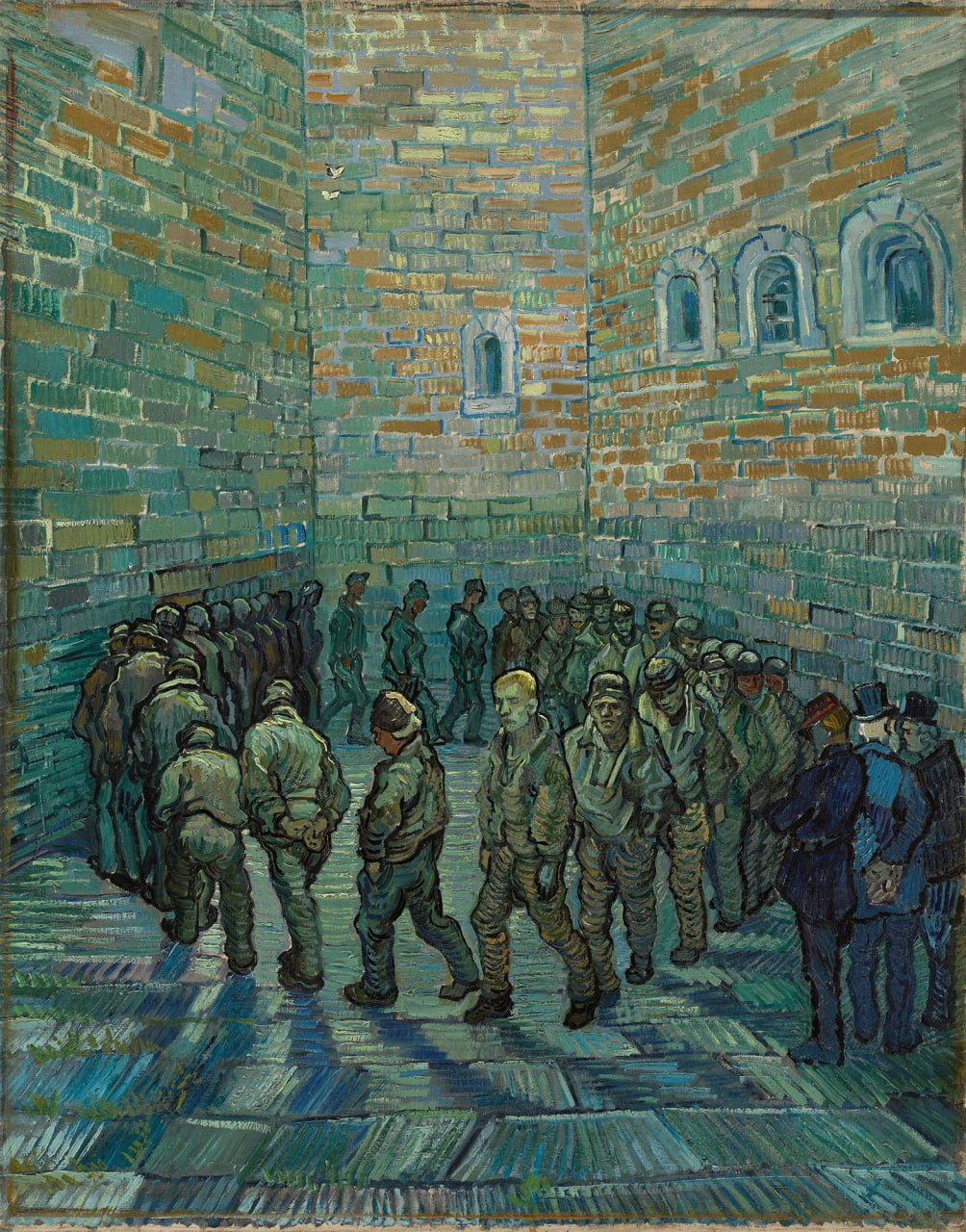
Как и обещали в прошлой статье, мы продолжаем рассказывать о пермском ювенальном проекте «Траектория». В предыдущем номере мы предложили вашему вниманию фрагмент интервью, взятого председателем Пермского отделения РВС Алексеем Мазуровым у Натальи Хайдуковой, пермского врача-хирурга, активного родителя.
Это интервью, а вернее предмет обсуждения — та самая информационная база «Траектория», о которой рассказала пермская активистка, — навели нас на тяжелые размышления и выводы о том, в какую сторону эволюционирует, а вернее, мутирует семейная политика в России. Да, раньше мы много писали о ювенальных технологиях. Мы писали о том, что они разрушают семьи и нарушают права родителей. Однако тотальность и окончательное зловещее содержание эта система смогла приобрести только сейчас, когда особенно быстро набирает обороты развитие цифровизации.
Цели ювенальщиков то ли трансформировались, то ли приобрели ту самую форму, которая была задумана изначально.
Да, мы и раньше говорили об ужесточении контроля над семьями, особенно из бедных, социально уязвимых слоев общества. Однако именно цифровизация позволила сделать этот контроль тотальным и всеобъемлющим.
Слияние ювенальных технологий с цифровыми породило монстра, обладающего большой разрушительной силой. Монстр стал плести паутину, от которой не сбежит ни один родитель, ни одна семья. Паутина эта пока раскинулась над Пермским краем. Нетрудно догадаться, что зовется она «Единая информационная система «Профилактика детского и семейного неблагополучия», или Единая информационная система «Траектория».
Это информационная база, в которую заносится информация о жизни семьи. Данные на семьи собираются и вносятся сообразно неким «индикаторам».
Индикаторы — показатели неблагополучия или, скорее, неидеальности вашей и ваших детей. Это не статьи в законах или других правовых актах. Это цифровые нити паутины. А поскольку таких нитей много (индикаторов насчитывается более 115), а вы не идеальны по определению, и всё равно в какой-то момент или в какой-то области не сможете демонстрировать благополучие, то вы в ней завязнете. Но как же, спросите вы, живя в реальной жизни, можно попасть в виртуальную паутину?
Затаскивать вас в нее станут учителя, школьные педагоги. Именно они должны будут вносить в базу системы «Траектория» сведения личного характера о вас и ваших детях.
Цифровая паутина для семьи
Школьный учитель должен отныне следить за вашими детьми и, руководствуясь индикаторами, заносить в базу определенные сведения. О том, как это происходит, и рассказала в интервью Наталья Хайдукова.
Вот, например, существует в «Траектории» такой индикатор: «наличие острого или повторяющегося конфликта с родителями».
«Что такое конфликт с родителями? Старшеклассник просит iPhone, а мы не покупаем iPhone, это конфликт? Это основание поставить семью на учет или пока еще нет?» — вопрошает она.
Но даже если конфликт действительно есть, почему он обязательно должен стать достоянием информационной сети, доступ к которой будет у большого и неопределенного круга лиц? Конфликты есть в каждой семье, и поскольку они не единичны, то… они повторяются. Кстати сказать, всякое воспитание в каком-то смысле процесс конфликтный. Ребенок, в силу своей незрелости, часто хочет или делает совсем не то, что ему действительно нужно. И тогда родители волевым образом направляют чадо по нужному пути. Часто при большом сопротивлении ребенка.
А теперь этот сложный, тонкий и очень личный семейный процесс будет предметом оценки со стороны школьного учителя? Очевидно, что оценивать учитель станет через призму своего мировоззрения, симпатий и антипатий, не исключено, что личной заинтересованности.
Конфликт всегда будет болезненной ситуацией для родителей, и они, напомним, имеют право не выводить некоторые аспекты своей личной жизни за круг семьи. Это их право, между прочим, защищено Конституцией.
Ровно под тем же углом зрения можно рассмотреть показатель «отношение родителей к ребенку эмоционально холодное». Представим себе сцену: рядом с учителем, классным руководителем стоят ребенок и родитель. Родитель ругает ребенка за плохое поведение. Учитель может посчитать, что это эмоционально холодное отношение? А почему нет? Ну, а если у учителя конфликт с родителем? Это ведь раньше подобные конфликты не должны были иметь никакого отношения к образовательному и воспитательному процессу в школе. А теперь учителю дано право оценивать «конфликтогенность» родителя по своему усмотрению и заносить ее в базу. Втайне от родителя. Самое страшное здесь — отсутствие даже следов правового пространства. Нет никаких законов, правил, норм, придающих действиям педагога объективность, дающих родителю право оспорить эти действия. Видимо, в виртуальном пространстве не действует ни Конституция, ни другие человеческие законы.
«Эмоциональная холодность — это совершенно возмутительный индикатор, который не имеет никаких критериев, нигде не конкретизировано, что такое „эмоционально теплое“ и „эмоционально холодное“ отношение к детям», — говорит Наталья Хайдукова.
Она зачитывает еще ряд индикаторов: «Отказ одноклассников брать несовершеннолетнее лицо — ребенка — в коллективные игры, занятия группы; отсутствие друзей в классе; отказ от общения с одноклассниками; продолжительный — две недели и более — конфликт с близкими друзьями; повторяющиеся конфликты в классе с одним ребенком, с группой детей или всем классом».
Кто и где прописал эти критерии? С какой целью собирается эта информация, причем тайным образом? Если у ребенка серьезные психологические проблемы, то как тайный сбор информации о нем ему поможет? Значит, информация собирается не с целью помочь семье.
Еще ярче это видно на других показателях: ребенок «проявляет физическую агрессию в отношении сверстников, может ударить, уколоть, ущипнуть» или демонстрирует «неоднократное проявление агрессии», или «может повреждать имущество школы, выдавать несоответствующее ситуации поведение; наличие жалоб на поведение как от детей, так и от взрослых».
Как раньше, по-человечески, учитель реагировал на подобные ситуации? Он звонил родителям, они вместе обсуждали ситуацию и решали, что делать. Теперь же учитель, не проинформировав родителей, внесет эту информацию в базу. Будут ли такие действия учителей способствовать росту доверия в отношениях с родителями? Если доверия нет, смогут ли все взрослые в этой ситуации помочь ребенку, осуществить крайне сложный и тонкий процесс воспитания ребенка, его трансформации? Нет.
Последние реформы образования, идеология прав ребенка, таки засаженная в головы граждан, и так уже столкнула лбами учителей и родителей, превратили их во враждующие стороны. Но превращение учителей в доносчиков на детей и родителей уничтожит последние сохранившиеся человеческие связи между педагогами и родителями. То же самое произойдет и с отношениями между учителями и детьми.
Кроме того, наличие конфликтов в школе не может всегда трактоваться как признак семейного неблагополучия.
Равно как и «отказ от общения с одноклассниками», который теперь стал присущ каждому первому школьнику, ибо теперь дети предпочитают скорее общаться с гаджетом или компьютером, чем со сверстниками. Но разве не наше правительство и не наше Минпросвещения продвигает в школы компьютерные игры под видом киберспорта? А технологии дополненной реальности в учебных материалах — кто продвигает? Для их использования детям придется сидеть в смартфонах.
Цифровизация сейчас становится главным фактором десоциализации детей. Это признают специалисты и даже сами чиновники от образования. Но они продолжают навязывать цифровизацию школе. Тут возникают вопросы. Не дóлжно ли усмотреть в этом холодное эмоциональное отношение к детям? Не свидетельствует ли такое отношение к детям о серьезном семейном неблагополучии в семьях членов правительства?
Вину и свое неблагополучие чиновники вряд ли признают. Наверное, им неприятно быть виноватыми, зато для родителей они придумали такие показатели, по которым всякий родитель, при желании учителя, обязательно будет виноватым. Судите сами, как мастерски расставлена ловушка: плохо, когда у родителей обнаруживаются «завышенные требования к успеваемости ребенка». Но плохо также, когда ребенок «не посещает дополнительные занятия». Чрезмерная загруженность дополнительными занятиями — это индикатор неблагополучия.
Еще одна ниточка в сети — «завышенные требования к домашним и семейным обязанностям, в том числе перекладывание родительской ответственности за младших детей».
«Мама жарит котлеты и говорит старшему сыну: „Дорогой мой, пожалуйста, налей сестренке водички“. Представим себе обычную ситуацию, когда ребенок в школе начнет рассказывать, что мама просит его ухаживать за младшей сестрой, а педагог, имея определенный настрой, поставит галочки по этому самому индикатору. Мы понимаем, что любой нюанс поведения найдет свое отражение среди этих 115 индикаторов», — говорит Наталья Хайдукова.
«Со стороны родителей не допускается ругань и сквернословие по отношению к ребенку, запугивание наказанием, появляется физическое насилие и часто используется унижения и оскорбления в сторону ребенка, пренебрежение, запугивание и угрозы». Тут снова вопросы. Унижения нельзя использовать часто. А редко можно?
И еще вопрос: что такое сквернословие, понятно, а что такое ругань? Слова «я тебя в угол поставлю» — это наказание? А слова: «Так, всё, никакого компьютера следующую неделю» — это запугивание наказанием? Какой-то учитель, не испорченный ювенальной идеологией, услышав такое, решит, что нет, а какой-то возьмет да и внесет в базу этот маленький донос. Тем более что он и не будет выглядеть, как донос. Так, очередное заполнение очередного журнала, проставление галочек. А тут ведь всегда «лучше перебдеть, чем недобдеть». Последствий своих действий учитель, возможно, и не увидит. Но дети и родители окажутся замараны, и эта информация на ребенка будет, возможно, потом преследовать его всю жизнь. Но и он, и его родители только потом это поймут, когда уже выросшего гражданина не возьмут, например, на работу как неблагополучного.
Ювенальная мутация семейной политики
Интересен сам термин «семейное неблагополучие». Его практически не существует в правовом поле. Понятие правонарушения, преступления существует. А понятия «неблагополучие» нет ни в административном, ни в уголовном кодексе. Потому что если государство правовое, то оно имеет право вмешиваться в жизнь человека, наказывать его, если — внимание! — оно доказало, что гражданин совершил преступление.
Появление термина «неблагополучие» свидетельствует о наличии совсем другого подхода к семье и к отдельному человеку. Интересно посмотреть, как наше семейное право эволюционировало в ювенальную, антиправовую сторону.
Вспомним, до 2008 года в Конституции РФ был законодательно прописан принцип невмешательства в семью.
С 2008 года соцслужбам и полиции разрешили вмешиваться в дела семьи и даже отнимать детей, если родители совершили что-то, по мнению чиновников, неправильное.
А вот с 2012–2013 годов явным образом вступает в свои права термин «неблагополучие». В России начинает действовать «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.», в которой говорится о превентивном вмешательстве в семью с целью «раннего выявления неблагополучия». Живет себе семья, не нарушает никаких законов и правил, но вот чиновнику вдруг захотелось проверить ее на предмет неблагополучия…
Родительская общественность много критиковала и боролась с этой полностью списанной с европейских документов стратегией, основанной на ювенальной идеологии. Поначалу казалось, что блицкриг ювенальщиков удалось остановить, хоть и не в полной мере. Но вот мы видим новое наступление антисемейных сил, явленное нам пермской «Траекторией».
Понятие «семейное неблагополучие» уничтожает принцип невмешательства в семью. Ибо слежка за семьей, оценка детей и родителей с занесением признаков «неблагополучия» в базу данных — это уже вмешательство.
Цифровая мутация семейной политики. Контроль ради контроля
Есть в «Траектории» такие показатели жизни семьи, которые не отнесены к каким-либо «индикаторам», но «требуют внимания», то бишь слежки с последующим занесением в базу. Каждый из них вызывает массу вопросов.
«Резкие перепады настроения в течение недели и более». Совершенно не секрет, что подобные перепады настроения свойственны, как правило, подростковому возрасту. Все семьи, в которых есть подростки, окажутся под подозрением? Еще вопрос: а как учитель будет отслеживать, сколько времени длятся перепады? Он их будет в особом журнальчике много дней фиксировать? С датой и временем? Он будет сидеть на всех уроках или попросит других учителей тоже следить за состоянием ребенка? Каково будет ребенку находиться в школе, когда все педагоги с подозрением следят за его состоянием? А смогут ли заниматься образованием детей педагоги, обязанные с подозрением следить за всеми детьми и заносить информацию в журнальчики? Вопросы, вопросы…
«Совместная досуговая деятельность родителей и детей в семье практикуется редко». А как это «редко» будет определять учитель? Неделями следить за семьей в бинокль с чердака противоположного дома? Будет выуживать эти сведения у ребенка или научит его стучать на своих родителей?
«Родители не посещают или очень редко посещают родительские собрания», «школу посещают только после неоднократных приглашений»… А вот у нас встречное предложение. Мы знаем, что школы сейчас постепенно превращаются в режимные объекты, с охраной, проходными и т. д. Родителей внутрь здания часто не пропускают. Так почему бы для начала не отменить это странное правило? И не объяснить, почему туда не пускают родителей? Ведь это при желании можно было организовать.
«Деформированный состав семьи»… Согласно официальной статистике, в России сейчас больше разводов, чем вновь созданных браков. Все неполные семьи теперь будут согласны с тем, что их взяли на карандаш? Впрочем, мы забыли, что их никто спрашивать не будет.
«Общее ухудшение физиологического состояния две недели и более», «один или несколько членов семьи имеют хронические заболевания, соматическое, психологическое, в том числе алкоголизм и инвалидность». Это тоже критерии семейного неблагополучия? А что произойдет, когда эти данные будут занесены в базу? В итоге в соответствии с прописанными в «Траектории» показателями ребенку будет выставляться некая оценка. Затем соберется некий коллегиальный внутришкольный орган, который на основании совокупности этих данных примет решение, например, о постановке семьи в группу риска социально-опасного положения (СОП).
Но бросится ли этот внутришкольный орган лечить больных детей и взрослых? Вопрос риторический. Все понимают, что нет. Тогда спросим снова: в чем цель сбора этих данных? Кстати, информация о хроническом заболевании является врачебной тайной.
Так ради чего сооружена вся эта система, вопиющим образом нарушающая законы? Крайняя размытость критериев (а часто и полное отсутствие какого бы то ни было их определения) приведет к тому, что в группу СОП может попасть обычная, вполне благополучная семья. С другой стороны, учителя, вынужденные подозревать всех детей, следить за ними, проверять и постоянно заносить в базу данные по сотне показателей, наверняка будут пропускать и потенциальных стрелков, и потенциальных самоубийц. Формирующаяся система явно не приспособлена для настоящей помощи семьям.
На самом деле нам кажется, что «Траектория» маркирует следующий этап в процессе мутации ювенальной системы. Напомним еще раз, раньше государство придерживалось принципа невмешательства в семью; затем оно решило вмешиваться, если родители совершают, по мнению чиновников, что-то неправильное; затем государство, всё больше расширяя сферу своего вмешательства, занялось профилактикой и ранним выявлением неблагополучия. Нынешний же этап, воплощенный в «Траектории» со всеми ее индикаторами, представляет собой просто систему сбора и цифровизации данных. На все семьи, вне зависимости от их благополучия. В систему будут заноситься данные обо всех аспектах жизни семьи: ее состав, психологические характеристики членов семьи, их здоровье, стиль воспитания детей, психологические особенности последних.
По таким показателям, как отсутствие/наличие постоянной работы у родителей, а также по факту обращения семьи в органы соцзащиты для получения помощи, можно легко получить сведения о доходах родителей. Есть в «Траектории» показатели, описывающие быт семьи и еще множество других сторон ее жизни.
Обществу просто предлагают смириться и привыкнуть к тому, что за ним следят. Без каких бы то ни было серьезных поводов и причин. Это — цифровой тотальный контроль ради цифрового тотального контроля.
И такая цель хорошо просматривается в примере, приведенном Натальей Хайдуковой. Она рассказала о еще одном показателе: «Выполнение уроков не контролируется или контролируется эпизодически», и описала, как с помощью него цифровизаторы добиваются контроля над родителями. «Учителей заставляют контролировать частоту посещения родителями электронного журнала. Повсеместно на классных собраниях или в чатах учителя пишут, что тех, кто не заходит в ЭПОС (Электронная Пермская Образовательная Система), внесут в «Траекторию». У нас уже есть случай, когда родитель в маленьком селе Юсьва Пермского края несколько лет не пользовался электронным журналом и дневником. А поскольку село маленькое, все друг друга знают, школа смотрела на это спокойно — ведь у ребенка был бумажный дневник.
Но стоило маме узнать о «Траектории» и написать в школу заявление на отзыв согласия на автоматизированную обработку персональных данных, как ее немедленно пригласили на школьный совет по профилактике и предъявили обвинение в том, что она не контролирует успеваемость своего ребенка, не заходит в ЭПОС», — рассказала она.
В других российских регионах такие системы называются электронными журналами или электронными дневниками. Родители имеют право отказаться от этих электронных ресурсов и завести ребенку обычный бумажный дневник. Казалось бы, родители исполняют свои обязанности, заглядывают в дневник ребенка, так что ни о каком неблагополучии речи не идет. Единственное «преступление», которое совершает такая семья, — она уходит из-под цифрового контроля. Не записано в базе данных поведение родителей — не смогут чиновники проверить, сколько раз открыла мать дневник ребенка. И именно это им не нравится.
Имеется в рассматриваемой нами цифровой системе «Траектория» еще одно подтверждение того, что главной целью является уже не внедрение ювенальных технологий, не отчуждение у родителей права на воспитание детей, а установление цифрового контроля над всеми семьями и в итоге — над всеми гражданами страны. Это так называемые «показатели успешности».
«Вот это — самый настоящий социальный рейтинг. Эти показатели являются базой для создания системы социального рейтинга учеников», — говорит Хайдукова.
«Ребенок поощряется, когда он в общении вежлив, соблюдает культуру поведения, проявляет чувство товарищества, демонстрирует эстетическую воспитанность, чувство вкуса, проявляющиеся в одежде, поведении, посещает учреждение дополнительного образования, принимает участие в олимпиадах, проявляет способность к самоанализу и критичности, способность различать хорошие и плохие поступки, демонстрирует непринятие курения, проявляет способность к эмпатии и сопереживанию, готовность оказать помощь», — перечисляет общественница.
В общем, системе нравятся успешные дети с красивыми лицами и послушные — ведь тем, кто не хочет в цифровую паутину, поставят галочки в отрицательных показателях.
Напомним, что многие из этих показателей будут субъективным образом оцениваться учителями. Нравится учителю семья — показатели успешности у этого ребенка будут хорошие. Не нравится, — а кто педагога проверит? И по каким критериям? Это неведомо.
А вот откуда берется система оценки человека с точки зрения его неблагополучия/успешности — мы знаем. Внедрение социального рейтинга (его черты в системе «Траектория» видны невооруженным глазом) в Китае стало цифровым инструментом, с помощью которого властям очень удобно управлять гражданами. Не имеешь нужного социального рейтинга, не стараешься, демонстрируешь непослушание? Потеряешь доступ к необходимым и важным сферам жизни — от возможности пользоваться транспортом до возможности получить хорошую работу.
Не культура, не идеология, не мораль оказываются общественными регуляторами, а цифровой показатель «благополучия».
В России отношение граждан к этой технологии крайне отрицательное. Но, несмотря на неприятие обществом, власти Перми всё же решили накинуть на своих граждан эту цифровую паутину. И мы понимаем, что Пермский край стал полигоном, на котором обкатают «Траекторию», чтобы потом внедрять ее по всей России. Мы уже получаем информацию о том, что ее аналоги появляются в других российских регионах.
Видимо, нашу власть очень прельщает идея получить, наконец, в свои руки инструмент жесткого управления людьми. Однако на деле она окончательно разрушит институты воспитания граждан — семью и школу. Граждан, способных воевать, развивать науку и технологии. Никакие платные приемные родительские семьи, в которые чиновники планируют отправлять детей, отняв их у родных родителей, этого не сделают.
Предлагаем власть имущим изучить статистику психических расстройств и уровень преступности среди детей, выросших в приемных семьях, и понять, что здоровые и ответственные граждане формируются в родной семье. Никакие искусственные интеллекты вместо учителей, которых хотят превратить в доносчиков, не обеспечат хорошее интеллектуальное развитие ребенка и не дадут ему достойное образование. Давать знания и воспитывать может учитель, педагог, а доносчик — не может. Ребенок никогда не вырастет здоровым, способным на живое творчество, на продуктивный труд, если ему за каждый чих, за каждое движение души будут ставить положительные или отрицательные баллы. И воином, готовым умереть за Родину на войне, он тоже не станет. Этого — ни за какие положительные и отрицательные баллы в людях не воспитаешь. Достойного развитого гражданина своей страны невозможно вырастить в условиях тотальной слежки и тотальной несвободы.
И наконец, сам принцип, когда наличие семьи и детей становится поводом для особенной подозрительности и слежки, отобьет охоту создавать эти самые семьи. И мы получим очередную демографическую яму. Так что для власти это закончится тем, что контролировать ей будет некого, и рухнет она в пропасть вместе со всеми своими цифровыми технологиями.