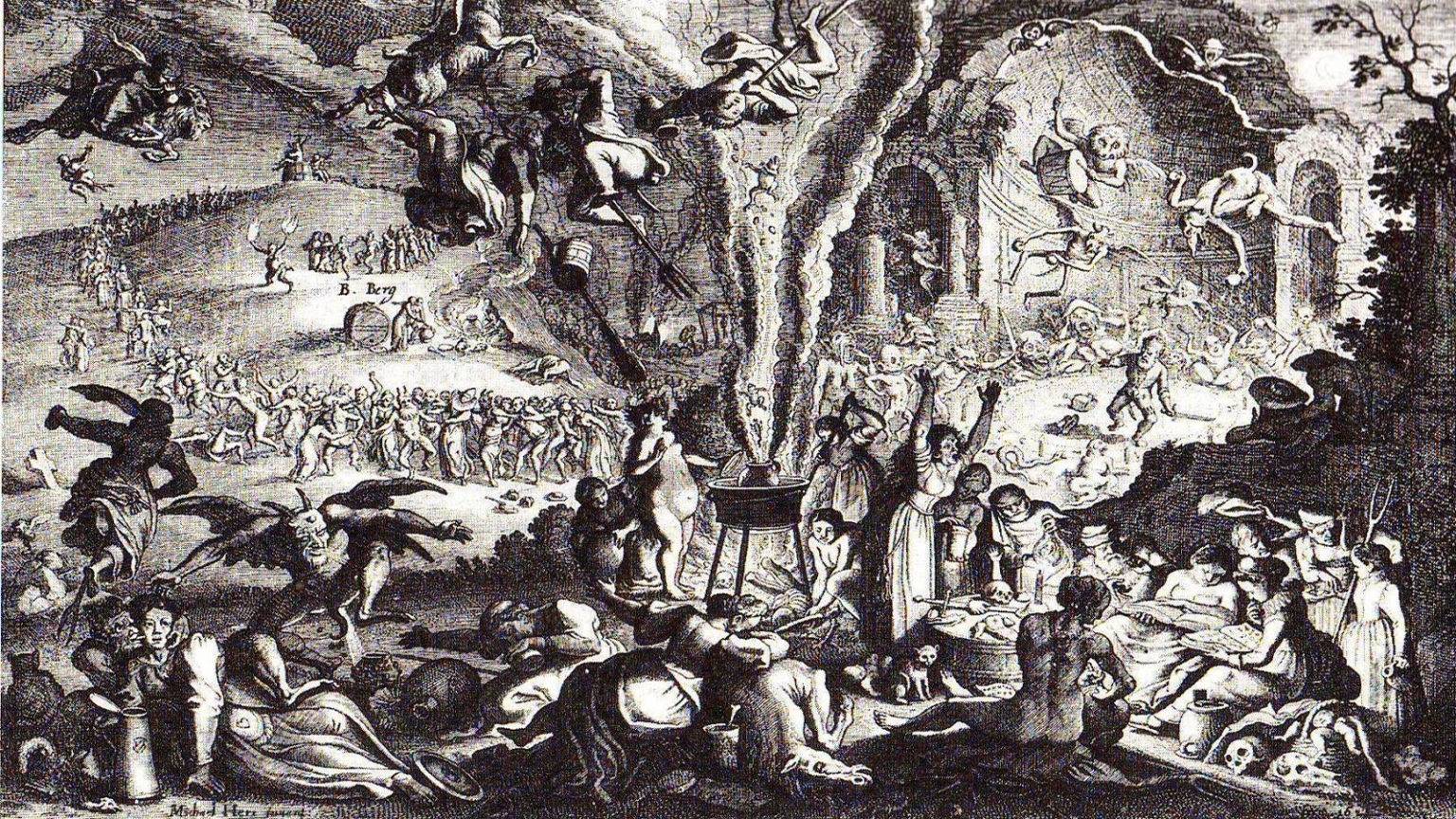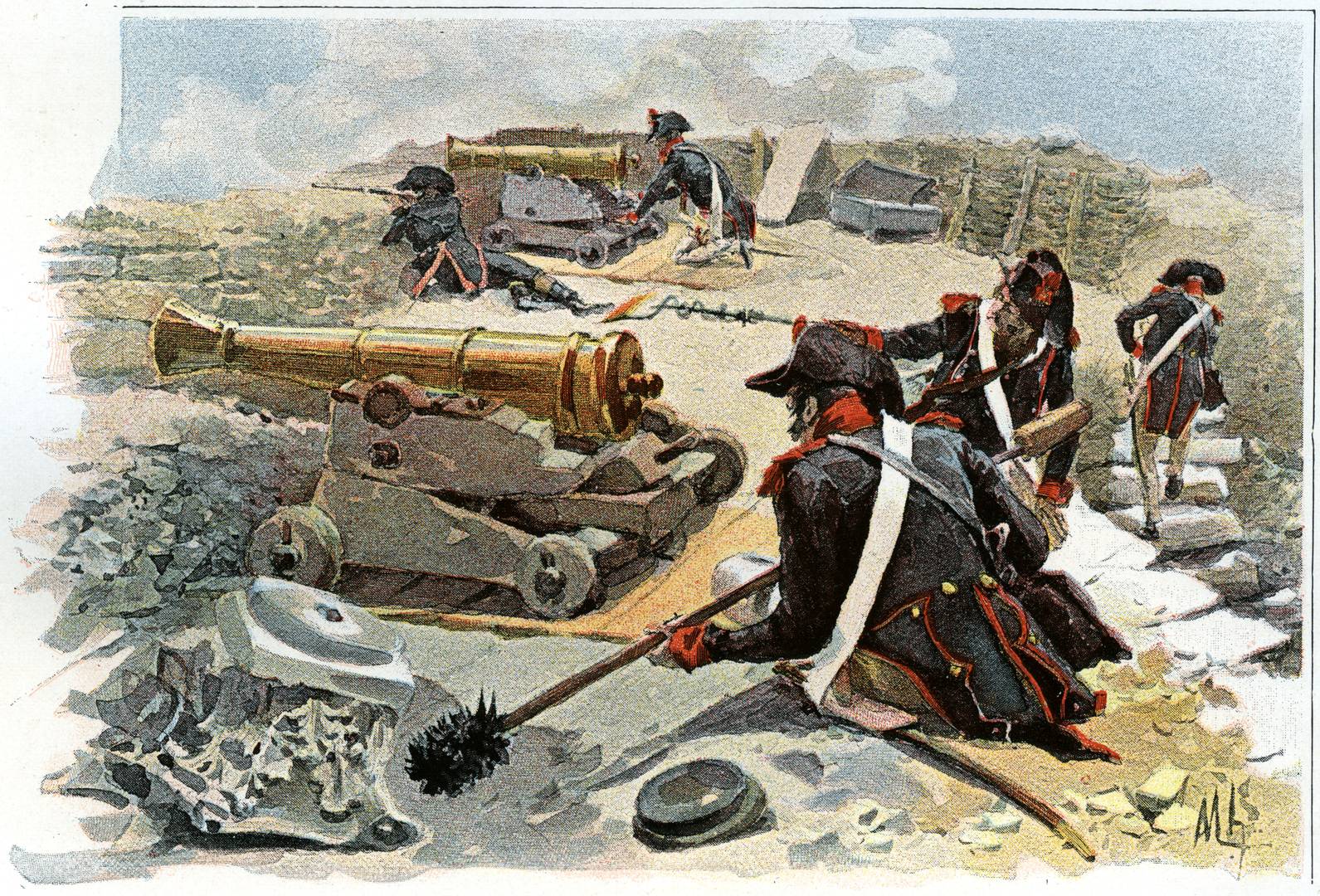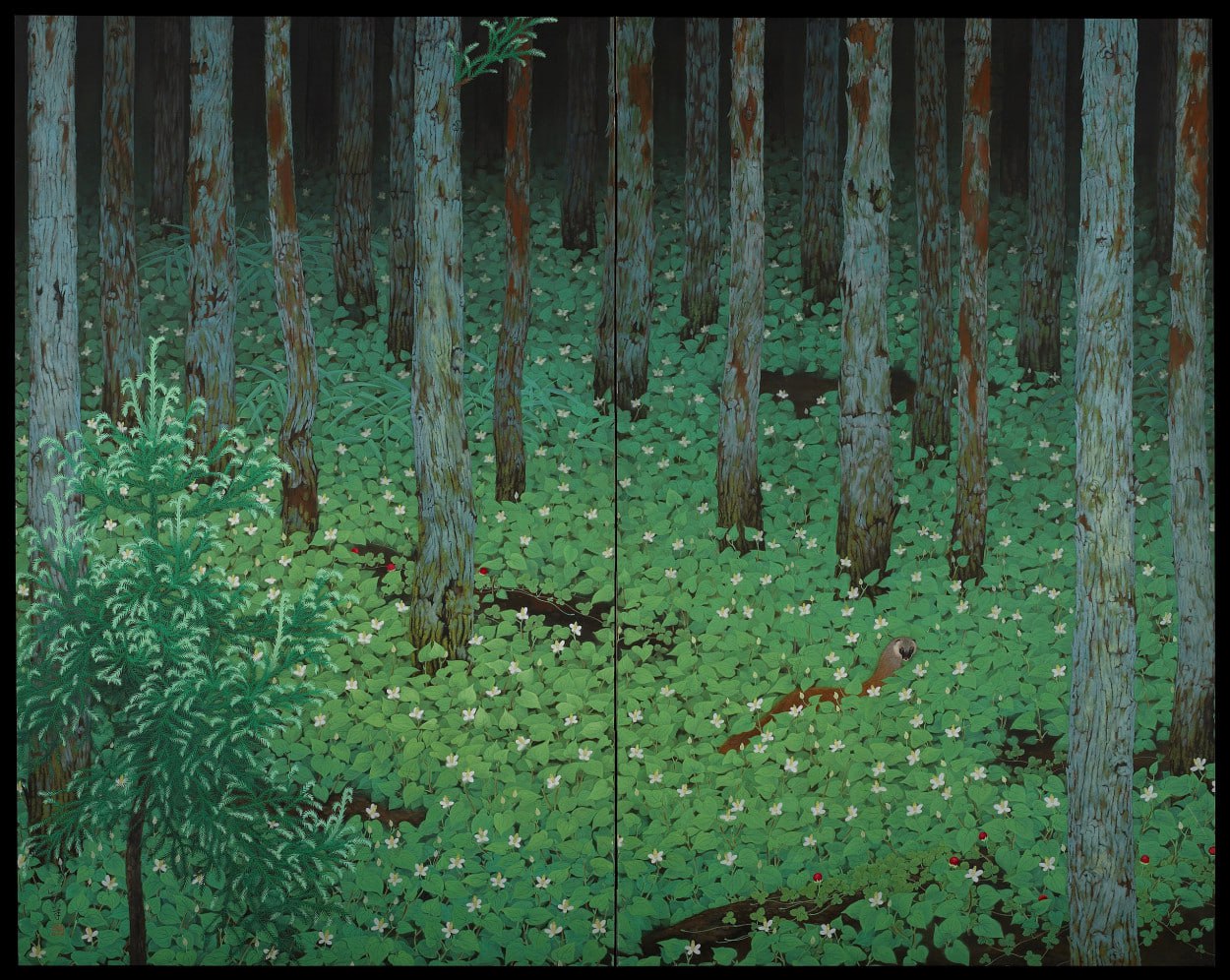О коммунизме и марксизме — 88

Связь между основоположниками марксизма и Сергеем Андреевичем Подолинским носит несомненный характер. Столь же несомненна связь между С. А. Подолинским и его учеником И. Р. Пригожиным. И столь же несомненно, наконец, что Побиск Георгиевич Кузнецов, сохранивший верность марксизму, далекому от марксистского начетничества, но содержащему в себе и коммунистическую доктрину, и советский дух, обсуждает всё сразу — и Маркса с Энгельсом, и Подолинского, и Пригожина. А также обращает наше внимание на то, с каким уважением Пригожин говорит о Марксе и Энгельсе. Налицо еще одна обрубленная веточка неначетнического марксистского древа. Та веточка, без восстановления которой (пусть хотя бы пунктирного) мы не можем даже встретиться с настоящей марксистской традицией во всей ее настоящей сложности. И уж тем более не можем вкусить плодов с древа этой традиции и развивать эту традицию дальше.
Но мало обнаружить формальную связь между такими-то исследователями. Ведь что такое формальная связь? Называешь имена исследователей, приводишь цитаты, говорящие об отношениях между этими исследователями, и успокаиваешься на том, что вот она — схема. Но какой толк в схеме, если все ее элементы у сегодняшнего читателя не связываются ни с каким острым, проблемным, актуальным для этого читателя содержанием? И если даже сами элементы схемы, они же — страстные исследователи, пытавшиеся разрешить острейшую и важнейшую для них проблему «пострелигиозной религиозности», для современного читателя совершенно стерильны. То есть холодны и бессодержательны.
Для того чтобы вернуть живую жизнь этим «элементам» — умнейшим людям с их страстями по истине и человеческому уделу, страстями, ничем, по сути, не отличавшимися от тех, которыми проникнута обсуждавшаяся нами музыка Баха, — нужно обсудить саму эту пострелигиозную религиозность. Она же — вера в способность человека противостоять всем видам человеческой смертности, конечности, какому-либо року, вне зависимости от того, в чем источник этого рока. Можно назвать такую веру научной, можно назвать ее пострелигиозной религиозностью, а можно назвать ее же антропологическим и историческим оптимизмом. Тут главное не название, а какая-то сопричастность этому типу веры или как минимум живое ощущение ее масштаба и значимости.
Кое-что по этому поводу я уже говорил в ряде своих работ («Исав и Иаков», «Суть времени»). Позволю себе еще одну вариацию на ту же тему.
Уже в начале XIX века накаленная живая религиозность — христианская или иная — становится в среде западных образованных людей скорее исключением, нежели правилом.
Одной из главных задач великого французского ученого (математика, механика, физика и астронома) Пьера-Симона Лапласа (1749–1827) было исследование устойчивости Солнечной системы. Лаплас рекомендовал в доробеспьеровский революционный период молодого генерала Бонапарта в члены Французской Академии наук (тогда называвшейся Институтом Франции, затем закрытой при Робеспьере, потом восстановленной под названием Институт наук и искусств). Став императором, Наполеон наградил Лапласа титулом графа империи и сделал его кавалером всех высших орденов. А также стал назначать Лапласа на все мыслимые и немыслимые должности, включая должность министра внутренних дел. Обнаружив негодность Лапласа к руководству министерством внутренних дел, Наполеон сделал меткое замечание о том, что Лаплас с его математическим духом бесконечно малых величин вносит в министерскую работу недопустимую мелочность, но не отказался от почитания Лапласа, назначил его сенатором. После реставрации монархии простолюдин Лаплас из графа стал маркизом и членом палаты пэров.
Если современного образованного человека спросить о том, что именно Лаплас ответил на вопрос Наполеона о месте творца в его космогонической системе («Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его творце»), то за редким исключением современный образованный человек скажет вам, что Лаплас ответил Наполеону: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе».
На самом деле Лаплас этого не говорил. Да и Наполеон был слишком умен для того, чтобы задавать своему любимцу Лапласу такой элементарный вопрос. Великий Лаплас оппонировал своему великому предшественнику сэру Исааку Ньютону (1642–1727), который был уверен, что так называемые вековые возмущения Солнечной системы (то есть отклонения от траектории, по которой небесные тела двигались бы в случае, если они взаимодействуют только с одним лишь Солнцем) должны уничтожить Солнечную систему. Будучи глубоко религиозным человеком, Ньютон, живший аж за целое столетие до Лапласа, был уверен в том, что Богу необходимо периодически вмешиваться и поправлять работу Солнечной системы, выступая в роли так называемого настройщика машины мира (le machine du monde). Лаплас дополнил описанную Ньютоном совокупность условий устойчивости Солнечной системы и показал, что настраивать машину мира Богу не надо. Что в этом нет необходимости. Но Лаплас вовсе не выводил из отсутствия этой необходимости отсутствие Бога. Лаплас размышлял по поводу абсолютной предопределенности, согласно которой разумное существо, узнав, каковы в определенный момент времени все положения и скорости всех частиц мира, могло бы предсказывать точно все мировые события. Такое существо было названо впоследствии демоном Лапласа. Видимо, на самом деле именно это — устойчивость машины мира — и обсуждал Лаплас с Наполеоном в бытность его Первым консулом Французской республики. В последующий период императору Наполеону уже было не до этих обсуждений.
Но одно дело — реальность тех или иных исторических диалогов, а другое дело — умонастроения образованного сословия той или иной эпохи. Уже в эпоху Наполеона и Лапласа умонастроения были таковы, что Лапласу, старавшемуся опровергнуть слух о том, что он в разговоре с Наполеоном назвал Бога ненужной гипотезой, не удалось убедить просвещенную общественность в том, что он говорил с Наполеоном о другом. Для просвещенной общественности XIX века Бог — это, в общем-то, ненужная гипотеза, некий реликт, атавизм, дань ретроградности непросвещенных слоев общества. Власть еще цепко держится за религию и на Западе, и в России — повсюду. Но просвещенные слои или заменяют классическую религиозность масонской (тот же Лаплас был почетным великим мастером «Великого востока» Франции), или отметают ее вообще в духе некоего условного «вольтерьянства».

Философы оказываются в сложнейшем положении. Потому что стремительно перейти к абсолютному атеизму им нелегко как по политическим, так и по более глубоким причинам, а остаться на позициях классической религиозности тоже нелегко. И потому что к тебе будут достаточно сложно относиться коллеги, и потому что молодежная университетская аудитория будет тебя яростно или сдержанно презирать, и потому что дух научности уже другой, и с ним труднее спорить, чем с молодежной аудиторией и коллегами.
Классическая религиозность в определяющих направление общественной мысли кругах умирает уже к началу XIX века. С каждым десятилетием процесс этого умирания ускоряется. Новый идеализм уже не может быть классически религиозным. Он становится неорелигиозным и уже с этих позиций ведет борьбу с материализмом.
Величайшим неорелигиозным философом XIX века является, конечно же, Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831). Последователи Гегеля делились и до сих пор делятся на так называемых младогегельянцев (они же — левые гегельянцы) и так называемых старых гегельянцев (они же — правые гегельянцы). Если старые гегельянцы отказывались развивать учение Гегеля об абсолютном духе (а именно таким духом Гегель, создавая неорелигиозность, заменил Бога), то младогегельянцы рвались к развитию учения Гегеля, считая главным в этом учении гегелевскую апологетику свободы и разума как движущих сил истории.
Младогегельянцами были и Маркс, и Энгельс, и Фейербах, и тот же Бакунин.
Я не хочу вдаваться в детали литературоведческого спора между С. А. Рейсером и С. Г. Бочаровым (Рейсер утверждает, что Достоевский не говорил «Все мы вышли из гоголевской шинели», а Бочаров утверждает обратное). Лично я больше доверяю Бочарову, но в данном случае обсуждение этого вопроса увело бы нас в сторону. Вышли ли все русские писатели из гоголевской шинели — вопрос открытый. А вот то, что все марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, образно говоря, вышли из гегелевской шинели (или гегелевского сюртука) — трудно оспорить. Другое дело, что выйдя из этого сюртука, они двинулись кто куда. Но вышли-то они из него. А этот метафорический гегелевский философский сюртук, из которого всё вышло, включая марксизм (и двинулось в разные стороны), в своем классическом варианте очень напоминает, если его рассматривать тщательно... ну, я не знаю... какие-нибудь индийские шервани или даже дхоти. Такое утверждение не имеет ничего общего с желанием дискредитировать Гегеля. И имеет, поверьте мне, вполне фундаментальный характер. Гегель — это потаенный индуист, для которого историческое развитие, завершаясь, становится началом абсолютного свертывания бытия, сыгравшего для абсолютного разума необходимую роль, каковой является использование разумом этого бытия как средства самопознания.
Познавший себя разум сворачивает бытие. И, в отличие от индуизма или христианской апокалиптики, не начинает новое разворачивание нового бытия (новой земли, нового неба). Всё сворачивается раз и навсегда после того, как разум бытие познает полностью. А познает он его полностью после конца истории. Когда на место исторического духа приходит новый дух, новизна мира кончается и разум познает эту конечность, превращая бытие в некую библиотеку. С одним только условием: в этой библиотеке, раз новизна кончилась, никогда не возникнет ни одного нового сочинения.
Все сегодняшние ревнители концов (истории, искусства, человека, этики и так далее), столь любезные сердцу западного высшего бомонда, — ученики Гегеля. И тут что конец истории Фукуямы, что конец искусства Данто... все эти концы взяты у Гегеля. А все авторы данных концов — неогегельянцы.
В этом смысле Маркс и Энгельс, а также их последователи — непримиримые противники того философского шервани или дхоти, из которого они вышли, в каких-то случаях осознав, что имеют дело не с сюртуком, а с чем-то другим, а в каких-то случаях, уйдя от первоосновы без этого осознания — интуитивно. Маркс уходил из неогегельянства, осознавая, что он уходит не только от философских систем, связанных с языческим «вечным возвращением» (а это ведь отнюдь не только постмарксистское ницшеанство), но и от всего, что говорит не о возвращениях, а о концах. Пафос Маркса — великая непрерывная историческая новизна. История, кончаясь как классовая борьба, для Маркса заменяется сверхисторией как развитием человека, а не концом истории. Не было бы этого решающего для меня обстоятельства — не было бы и этого исследования. Потому что вся суть марксизма в великой новизне, в отрицании концов и возвращений.
Но чем, по сути, является такая великая непрекращающаяся новизна? Кто ее главное действующее лицо? Конечно же, человек. Кто ее враги, они же — враги человека?
Мы ведь сейчас обсуждаем не демонологию и не политическое (элитное или классовое) антигуманистическое, а значит, и античеловеческое начало. Мы обсуждаем некую научную веру (как минимум, наука верит в истину — а значит, уже в каком-то смысле является верой). Так вот, такая научная вера, опирающаяся на великую непрерывную новизну, она же — сверхистория, новый человек, новый гуманизм и так далее, — это и есть марксизм со всеми его ответвлениями. Кто враг для этой веры? Какое объективное начало эту веру, так сказать, торпедирует?
Не обсудив этот вопрос, мы ничего не поймем ни в Подолинском, ни в Пригожине, ни в этой редакции марксизма. Для того чтобы читатель нащупал ясный и верный путь, начну с примеров из художественной литературы, которые уже приводил когда-то в других работах.
В драме Леонида Андреева «К звездам» есть монолог некоего Трейча, которого автор представляет читателю таким образом: «Трейч, рабочий, 30 лет. Черный, худощавый, очень красивый, сильно изогнутые брови; дальнозорок. Прост, серьезен, несловоохотлив».
Вот что говорит в своем монологе этот несловоохотливый Трейч, обращаясь к слушателям (инженеру Верховцеву, детям ученого Терновского Николаю, Анне и Пете, невесте Николая Марусе, ассистенту Терновского Лунцу). Привожу длинную цитату из пьесы со всеми ремарками, репликами действующих лиц — для того чтобы предельно ясно было, о чем именно идет речь.
«
Трейч. Надо идти вперед. Здесь говорили о поражениях, но их нет. Я знаю только победы. Земля — это воск в руках человека. Надо мять, давить — творить новые формы... Но надо идти вперед. Если встретится стена — ее надо разрушить. Если встретится гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если нет крыльев — их надо сделать.
Верховцев. Хорошо, Трейч, надо сделать!
Маруся. Я уже чувствую крылья!
Трейч (сдержанно). Но надо идти вперед. Если земля будет расступаться под ногами, надо скрепить ее — железом. Если она начнет распадаться на части, нужно слить ее — огнем. Если небо станет валиться на голову, надо протянуть руки и отбросить его — так! (Отбрасывает.)
Верховцев. У-ах! Так!
Некоторые невольно повторяют позу Трейча — Атланта, поддерживающего мир.
Трейч. Но надо идти вперед, пока светит солнце.
Лунц. Оно погаснет, Трейч!
Трейч. Тогда нужно зажечь новое.
Верховцев. Да, да. Говорите!
Трейч. И пока оно будет гореть, всегда и вечно, — надо идти вперед. Товарищи, солнце ведь тоже рабочий!
Верховцев. Вот это — астрономия! Ах, черт!
Лунц. Вперед, всегда и вечно.
Верховцев. Вперед! Ах, черт!
Все в возбуждении разбиваются на группы.
Лунц (волнуясь). Господа, я прошу... это нельзя так оставить. А убитые! Нет, господа, не только те, кто мужественно боролся и погиб за свободу, а вот эти... жертвы. Ведь их миллиарды, ведь они же не виноваты... И их убили!»
Считаю необходимым вкратце прокомментировать эту развернутую цитату.
Во-первых, кто такой Трейч — абсолютно ясно. Это рабочий-революционер, что применительно к описанию событий 1905 года (а Андреев описывает именно эти события) и личности Андреева (его связям с Горьким и т. д.) с несомненностью говорит о том, что Андреев описывает некоего большевика, излагающего философию, сходную с марксизмом в варианте Богданова, с богостроительством в духе Горького и Луначарского и так далее.
Во-вторых, вопрос Лунца (еврея, который в следующей сцене страдает по поводу погрома) в пьесе остается без ответа. Но философия Трейча требует определенного ответа на этот вопрос, и этот ответ был дан в большевистской неорелигиозности, ориентированной на сверхисторию и бесконечную новизну, порожденную бесконечно развивающимся человеком. Если можно зажечь новое солнце, то можно всё. А если можно всё, то можно и воскресить людей. Этот ответ был дан в рамках обсуждаемого мной неортодоксального марксизма. Мы чуть позже будем его обсуждать подробно. Но вначале обсудим солнце, которое остынет, погаснет, и его надо будет зажечь заново.
(Продолжение следует.)