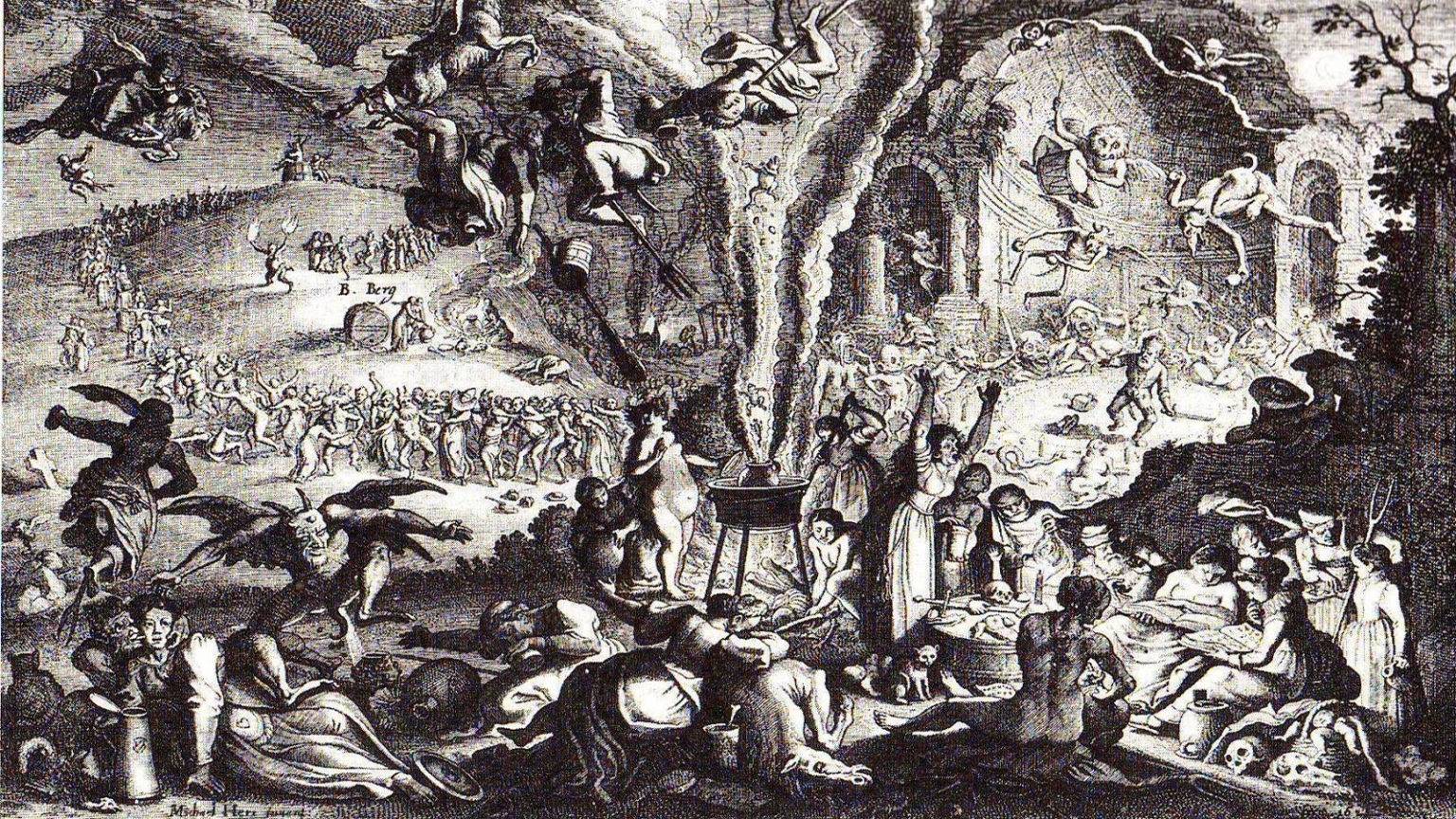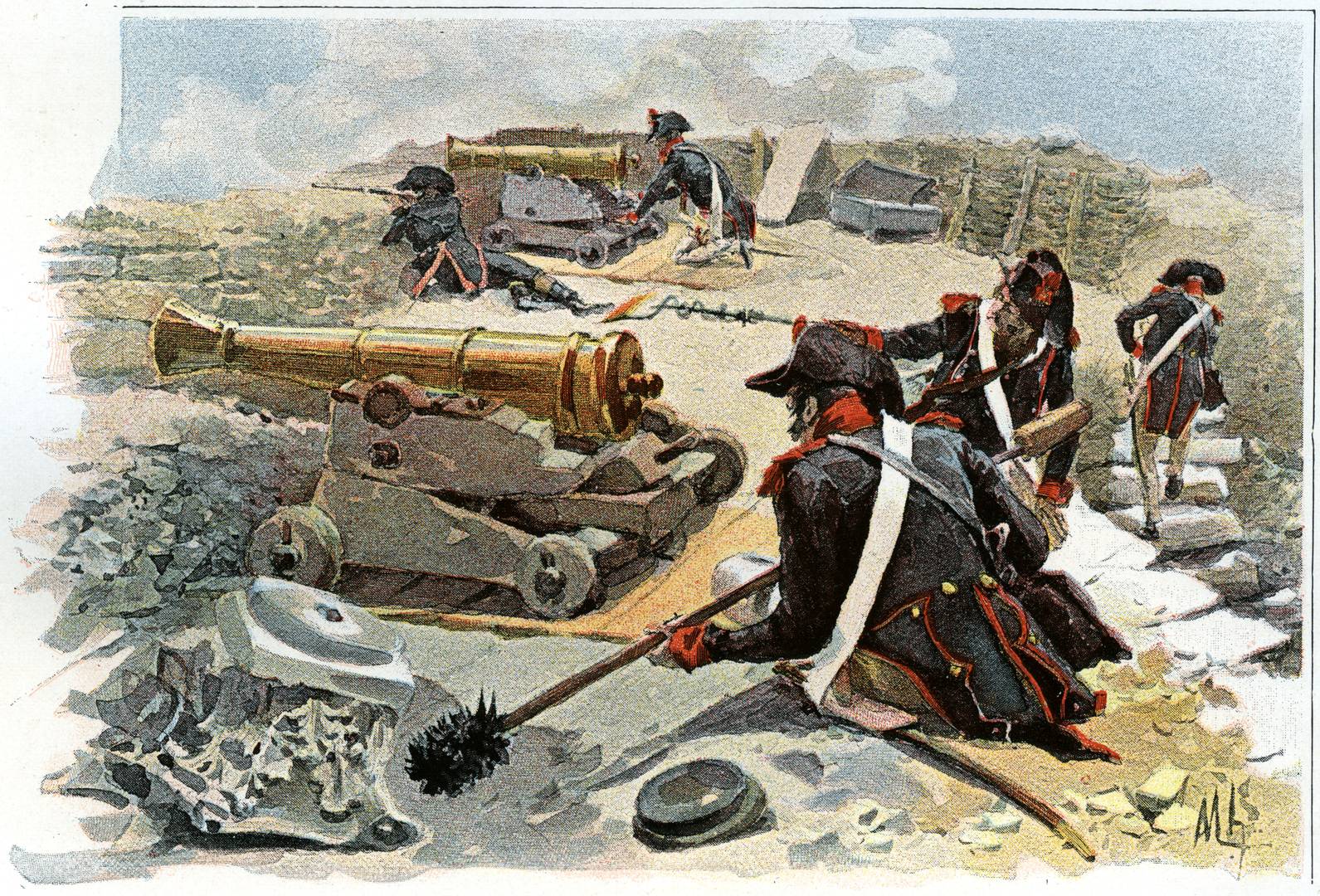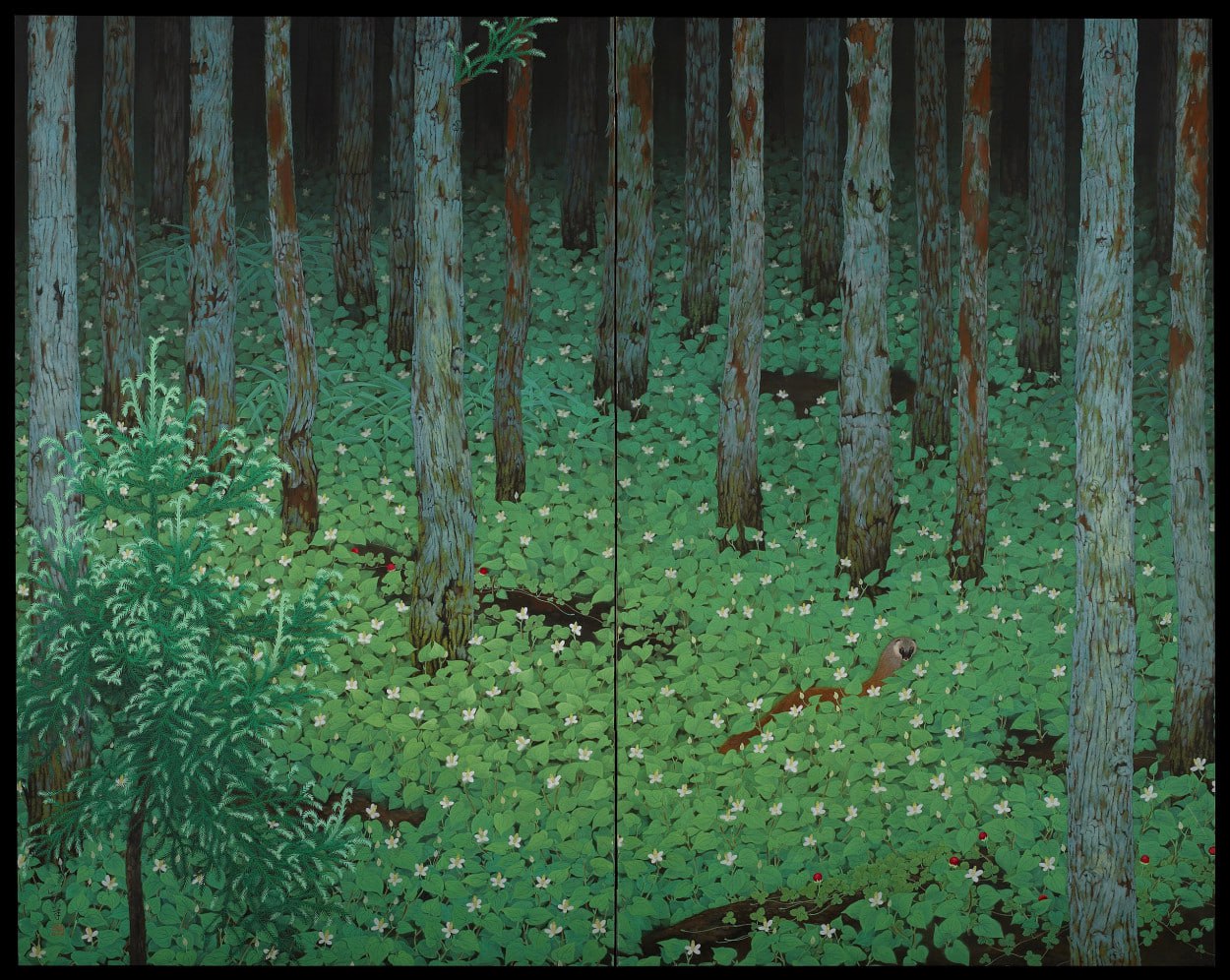Десоветизация живописи. Часть V
В предыдущей статье уже были кратко охарактеризованы некоторые общие черты и качества жизни и творчества Серова после поражения революции 1905 года. В этой статье хотелось бы остановиться на особенностях его «самостоянья» в социальной и художественной жизни России 1906–1911 годов поподробнее.
Резко отрицательное и бескомпромиссное отношение к на время «утихомирившим» страну властям проявлялось у Серова, конечно, и в этот период, и порой в весьма резкой форме. Так, прекращение его преподавательской деятельности в 1909 году было связано с признанием московским генерал-губернатором «не заслуживающей уважения» просьбы Серова и других преподавателей временно разрешить работать в мастерских и слушать лекции в училище бывшей его воспитанницы — известного скульптора А. Голубкиной. Причиной отказа было то, что за тесную связь с социал-демократами и распространение нелегальной литературы она в 1907 году была приговорена к году тюрьмы. (Между прочим, именно Голубкина во время революции по заказу Московского комитета РСДРП создала первый в России бюст Карла Маркса.) После этого Серов категорически отказался от преподавания.
Гордость Серова, неприятие им «эластичности» коллег («заставит начальство ходить на четвереньках — пойдем на четвереньках»), ярко выразилась и в разрыве отношений с Шаляпиным, весь 1905 год вдохновлявшим революционеров исполнением «Марсельезы» и «Дубинушки», а в начале 1911 года вставшим перед находившимся в театре императором на колени. Серов послал артисту короткую записку: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы».
Сократили жизнь сверхчуткого Серова и другие горькие переживания: в конце 1910 — начале 1911 года конфликт с полицмейстером, вызвавшим его (профессора, известного художника) перед поездкой за границу на беседу для личного удостоверения в благонадежности и грозившим Серову несколькими месяцами тюрьмы (реально его приговорили к штрафу).
Произведения же и «творческое поведение» (М. Пришвин) Серова также являли собой образец верности собственным убеждениям, цельности, и в то же время широты взглядов, отзывчивости «открытой системы» его искусства духу времени и новым, подлинно живым явлениям и исканиям современного искусства.
Это, между прочим, очень ярко сказывалось и в его работе в Попечительском совете Третьяковской галереи, и в его преподавательской деятельности. Серов-учитель изначально был чужд рутине и бессмысленному формальному консерватизму. При этом, работая вместе со студентами, он оказывал на них благотворнейшее профессиональное и нравственное влияние.
Как вспоминал П. В. Кузнецов, Серов позволял «свободно проявлять свои стремления» и в то же время «заставлял углубляться в творчество живописи, ...воспитывал строгую внутреннюю дисциплину, так необходимую для адекватного выражения собственного мировидения».
Не случайно именно из его мастерской «веером» (как писал Д. В. Сарабьянов) вышло едва ли не большинство самых одухотворенных мастеров русского и советского искусства разных «формаций». Так, именно серовскими учениками были лучшие художники-символисты 1900-х — 1910-х годов: К. Петров-Водкин, Н. Сапунов, М. Сарьян и П. Кузнецов, признававшийся в 1901 году в письме Серову: «Вы, как отец, единственный, кому можно верить».
С пониманием, хотя порой и не без раздражения, реагировал Серов и на те невиданные формы и «гипертонию художественной воли», которые были характерны для учеников в последние годы его преподавания, когда уже в стенах школы они писали синих натурщиц и зеленые тени, в своем желании «эпатировать буржуа», эпатируя и преподавателей.
Как писал В. Рождественский, ученик Серова, больше года отсидевший в тюрьме за участие в боевой дружине: «Романтизм недавних революционных событий, естественно, побуждал искать нового хотя бы в творчестве, уже не могла удовлетворять роль эпигона устаревших догм в русской живописи». В 1910 году Рождественский стал одним из основателем «скандального» общества «Бубновый валет» вместе с другими талантливыми серовским учениками — М. Ларионовым, И. Машковым и др.
В те годы, отличавшиеся стремительным утверждением «машинной» цивилизации, изменением представлений о вселенной и «подспудным «закипанием» русского общества, уже началось «энергийное действо» русского авангарда. И молодежь, апеллируя в своих стремлениях к новейшим течениям западной живописи, открытиям и тенденциям науки (прежде всего, «энергетизма»), стремилась «смазать карту будня», внося в свои работы повышенный тонус своего жизнеощущения, волю к «жизнетворчеству».
Серов, судя по всему, прекрасно понимал порывы молодежи, возмущаясь не «поисками нового», а, увы, нередко присущей «обновленцам» того времени (как выражался Петров-Водкин), «обезьяньей переимчивостью» в подражании французским модернистам, пренебрежением основ художественной грамоты, а вместе с ней и подлинной глубиной и содержательностью творчества.
Память учеников Серова сохранила его афористичные высказывания на эту тему: «В России жить, так уж русским и быть»; «Иностранцы — умный народ, научили они нас глаза таращить, так давайте свое высматривать»; «Сквозь новое должно просвечивать хорошее старое».
Сам же Серов в творчестве последних оставался верным основным своим принципам («я, извините за выражение, все-таки реалист») и противостоял нарастающей энтропии (по А. Бенуа — «чудовищной сумятицы») современных процессов, апеллируя к традициям классического искусства вплоть до его античных истоков, и в этом смысле солидаризируясь с искателями классической ясности внутри господствовавшего тогда стиля модерн.
В его искусстве 1906–1911 годов немного работ, посвященных любимой русской деревне. Понимая сложность происходивших в ней процессов после периода, когда ссылали на каторгу целыми деревнями, Серов видимо, не обретал в изображении сельской жизни прежней отрады. Это не означало его измены почвенной России: он тосковал о ней в «столицах», за границей и даже на приобретенной им в начале века скромной даче под Петербургом, по-прежнему каждый год посещая Домотканово.
Наверное не случайно, как уже говорилось (во второй статье), последней картиной, которую Серов выставил, уже предчувствуя скорую смерть, была отсутствующая на выставке картина «Осенняя ночь» (1909), на которой он запечатлел (по словам одного из критиков): «темную тяжелую ночь, вызывающие горящие окна помещичьего дома и измученную голодную лошадку, впряженную в поглощенную тьмой кибитку. Такой он видел Россию». Характерно, что пораженный этой картиной С. Мамонтов, с детских лет друживший с Серовым, считал, что она представляет даже «не человека, которого звали Валентином Александровичем Серовым, а часть его глубокой и прозорливой души, отраженной на холсте».
Портреты, исполненные им в последние годы жизни, поражают отточенным мастерством, «афористичной» лаконичностью емких характеристик и широтой амплитуды выразительно-ассоциативных средств, соответствующих и общему стилю, и разнообразию характеров людей того смутного, причудливого времени.
Так, один из самых ценимых самим Серовым портрет адвоката А. Н. Турчанинова (1906), написанный в более традиционной, почти репинской манере, исполнен бережного внимания к модели и светящейся в глазах этого пожилого человека живой, теплой душе. Причем сам художник говорил Грабарю об этом образе: «Писать таких — мое настоящее дело».
Не лишне вспомнить, что именно Турчанинов после кровавых событий 1905 года был председателем комиссии, пытавшейся привлечь к уголовной ответственности «виновных в незаконных действиях должностных лиц» («по искам семей убитых и раненых, и ...потерпевших от ран и других повреждений»), а прежде защищал в суде многих революционеров, в том числе народовольцев. При этом, согласно «Петербургской газете» (1906, 18 апреля, № 104), он «был духовником многих борцов за свободу русского народа» и «не только защищал их по долгу присяги, но принимал их последний вздох, слушал их признания, не предназначенные для суда, который эти люди принципиально отрицали».
В довольно длинной аннотации к портрету Турчанинова (на выставке Серова на Крымском валу) об этих важнейших и лежащих на поверхности фактах, конечно же, не упоминается.
Совсем иначе, в соответствии с обостренным мировосприятием и особенностями нервной системы модели, исполнен почти силуэтный серовский портрет одного из наиболее мучительно переживавших поражение революции писателей того времени, Леонида Андреева, в печальных глазах которого словно мерцают отсветы кровавых зарниц.
Как уже говорилось, во многих поздних работах Серова в различных формах проявляется одно из важных качеств культуры того времени — вслушивание в «зовы предков», стилевая опора на разные слои классических традиций, о судьбе которых Серов, несомненно, много размышлял, в том числе с кистью в руках.
Это качество присуще и некоторым из созданных им «обстановочных» заказных портретов, в которых нелицеприятность оценки моделей соединяется с уважительной памятью о высокой дворянской культуре XVIII века. Среди работ Серова, начиная с портрета холеного, «породистого» (слова С. Мамонтова) князя В. Голицына (1906), выделяется группа, которую можно определить, пользуясь словами одного из критиков, портретами «отходящего барства».
Не раз отмечалось, что в таких работах художник, великолепно изображая интерьеры, ткани, мебель и другие признаки фамильной гордости и богатства моделей, строит работы наподобие «классических статуй среди предметов архитектуры». При ближайшем же рассмотрении оказывается, что ближайшей аналогией построения таких работ с непременными и акцентированными в них вазами или свечами в культуре XVIII века оказываются надгробные памятники (более всего это очевидно в «Портрете княгини Щербатовой», 1911).
Причем в некоторых из таких работ пластика старинной мебели и архитектуры и краски старинных картин выглядят более живыми и теплыми, чем сами модели, например, сухопарая законодательница мод Петербурга княгиня Орлова. (Серов пояснял выражение ее лица на портрете: «А я Ольга Орлова и мне всё позволено, и всё что я сделаю, хорошо».)
Есть среди поздних работ Серова и портреты (почти исключительно женские), в которых художник как бы принимает правила игры специфической атмосферы художественных салонов Серебряного века, участники которых создавали в своем общении (и творчестве) как бы параллельную реальность, поднимаясь над бездной серой обыденщины и неподлинной действительности.
И именно Серов, не только вхожий в эту среду, но и высоко ценимый в ней как неподражаемый мастер, как никто точно, почти с восхищением, но и с тонкой иронией сумел передать специфику этой среды, ее «стильность», в то же время присущую многим ее обитателям «позу», искусственность, претенциозность.
В этом смысле, конечно, особенно характерен и замечателен портрет Генриэтты Леопольдовны Гиршман, — одной из симпатичнейших дам московского бомонда, супруги известного фабриканта и мецената. Именно их дом был штаб-квартирой влиятельного в художественной среде того времени общества «Свободная эстетика».
Запечатленная в изысканной позе среди изысканного будуара, со вкусом стилизованного в духе неоклассики (на стене — барельеф Ф. Толстого) и в своей сдержанной гармонии, нарушаемой лишь красным огоньком какой-то парфюмерной безделушки, она благожелательно и чуть капризно смотрит на зрителя и уверена в своем (действительном) обаянии.
Но Серов остается верным себе и здесь. Отнюдь не предлагая зрителю подчиниться этой «интерьерной» замкнутой внутри себя гармонии и «остраняя» созданный образ, он вводит в картину напоминание о другой, не «параллельной», а подлинной реальности. В отражении в зеркале изображение модели смазано, зато хорошо виден сам художник, с угрюмым лицом трудящийся в поте лица своего и являющийся в пространстве портрета как гость из большого мира, носитель правды жизни.
Надо сказать, что сама Гиршман — достаточно умная и тонкая женщина (ее, например, высоко ценил К. Станиславский), чутко уловила этот аспект, в своих воспоминаниях уместно сравнив портрет с картиной «Менины» любимого художника Серова — «слишком правдивого» испанского живописца XVII века Д. Веласкеса.
Подобные как бы «салонные» портреты Серова в общем «массиве» его наследия, конечно, очень близки к тем его произведениям, в которых отразилась столь важная и характерная для русской культуры той эпохи стихия театральности.
Связь с театром всегда, с Абрамцевских времен и даже генетически (его родители были оперными композиторами), присутствовала в творчестве Серова. За долгие годы он исполнил много портретов артистов драматического и музыкального театра, не раз писал декорации (в том числе для постановок оперы отца), даже сам иногда (в юности) выступал на сцене.
И естественно, что в 1900-е годы, когда театр и приобрел в русской культуре совершенно особое значение (не только как отражение действительности, но и как место «проектирования» желанной реальности, воскрешения древних мистерий, обращения к «сущностям» бытия, мечтаний о «танцевализации» жизни и пр.), это не могло не выразиться и в его творчестве.
Во второй половине 1900-х годов он исполнил целый ряд портретов артистов Малого и Художественного театров, Ленского и Сумбатова-Южина, близкого ему по духу Станиславского, Качалова, Москвина и др. Но особенно тесно оказался он связан в последние годы жизни с «Русским балетом» С. Дягилева, оформлением и постановкой его спектаклей занимались бывшие «мирискусники».
Дягилевская антреприза, прежде всего «Русские сезоны» в Париже действительно были важным достижением отечественного (и европейского) искусства. Здесь, конечно, не место подробно описывать это масштабное явление, в котором причудливо соединялись декаденсткий индивидуализм и жажда «хорового» синтетического действа, имморальное «дионисийство» и искреннее «ожидание гимна Аполлону».
Для нас в данном случае важно то, что Серов, несомненно, в целом высоко ценил художественные достоинства «дягилевцев», приняв участие в оформлении балета «Шахерезада». Он планировал оформить и спектакль «Дафнис и Хлоя», создав целый ряд портретов художников, поэтов и балерин.
Это не значит, что Серов «слился со средой». Со своим вечным стремлением к высокой простоте он, конечно, ощущал, что в людях этого круга «дар и полет соединяются со всячинкой» (использованы его слова о Шаляпине), и был среди них «своим среди чужих». Это, между прочим, ярко выразилось и в его портретах и дружеских шаржах на Дягилева и его друзей, в которых он непременно фиксировал черты барства, манерности, «позы». Эта двойственность присутствует и в портретах балерин. Если в изображениях А. Павловой и Т. Карсавиной царит почти «пушкинское» чувство «полувоздушности», «души исполненный полет», то в замечательном портрете Иды Рубинштейн (1909) Серов передает совсем другие ощущения, которые также вызывал у него «бесстыдный стиль модерн» (из стихотворения В. Брюсова того же 1909 года).
Этот портрет на время ставшей звездой дягилевского балета актрисы-любительницы и экстравагантной миллионерши, первой в русском театре полностью «снявшей покровы» в балете по «Саломее» Оскара Уальда, вызывал (и вызывает) самые противоречивые отзывы, в том числе возмущенные. Ценители искусства Серова, увидели в этом портрете измену мастера своим принципам.
По своему (с положительным знаком) трактуют признаки «новой эстетики», любования тем, что представляется другим безобразным, авторы сопроводительных текстов к выставке на Крымском валу. Кто-то (и справедливо) усматривал в этом портрете точную передачу характерного типа «современной женщины в нервном и тонком ее выявлении», вспоминая при этом специфические черты различных представительниц культуры XX века от «женщины-змеи» З. Гиппиус и А. Ахматовой до М. Плисецкой с присущей ей, по выражению А. Вознесенского, «адской искрой».
Между тем, говорить о какой-то новой эстетике Серова и тем более видении им в мадам Рубинштейн чуть ли не идеала красоты, вряд ли приходится. Об идеале не говорят: «этакое создание... ну что перед ней все наши барыни»; «бедная, голая» (слова Серова). Не раз Серов в беседах с друзьями упоминал в связи с этой работой и Вавилон («блудница вавилонская»), и то, что «у нее рот раненой львицы, а сама она смотрит в Египет».
Эту фразу обычно понимают как «эффектный» образ, не задумываясь, что это за львица такая. Между тем художник этими словами давал ключ к портрету, отсылая к достаточно мрачному прообразу своего решения: известному ассирийскому барельефу «Раненая львица» из Лондонского музея.
В древней Ассирии львы рассматривались как воплощение враждебной человечеству стихии. Если же добавить, что длинный зеленый шарф у ног Иды похож на (как выражается один искусствовед)«змею в смертный час», а проще — на дохлого удава, то станет окончательно ясно, что восхищение художника «монументальностью» «поднявшейся над бытом» дивы имеет достаточно ироничный характер. И рассматривать этот образ надо рядом не столько с Гогеном или Кончаловским, сколько с серовской же Ольгой Орловой, которая, кстати, запретила показывать ее портрет в одном зале с «Идой», видимо, по причине сходства «конструкции» — «излома» и «выверта».
Сам художник в эти годы «смотрел», конечно, не в Египет, а в любимую солнечную Элладу. «Родственное» отношение к античности изначально было присуще Серову, говорившему об особом чувстве, которое он всегда испытывал, «глядя на то, что выходило из-под рук греков, т. е. то живое, трепетное, что почему-то называется классическим и как бы холодным».
Этим чувством было проникнуто и его исполненное в год создания «Девочки с персиками» панно «Феб лучезарный», проясняющее и генетические основы его искусства, «солнечную меру», которая была основой его искусства и «пушкинского» языка (О. Мандельштам писал: «каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя»).
Это чувство выходило «на поверхность» и в 1893 году, когда он работал над картиной «Ифигения в Тавриде», и в начале 1900-х годов, когда он начал было работать над «античными» панно для Музея изящных искусств в Москве и задумал картину «Одиссей и Навзикая», чтобы воплотить образ героини «не какой ее пишут обыкновенно, а такой, как она была на самом деле».
Особенно же необходимой оказалась для Серова античность в последние годы, когда он в 1907 году в Греции с упоением изучал искусство греческой архаики и всматривался в «действительное совершенство» Акрополя (он говорил, что ему хотелось «плакать и молиться»). До конца дней работая над античными сюжетами, он создал несколько вариантов изображений сияющего «золотом в лазури» «Похищения Европы» и встречи Одиссея с царевной Навзикаей.
Последний сюжет был почерпнут Серовым из гомеровского описания счастливой страны — первой социальной утопии в мировой литературе. Измученный странник обретает приют и покой на блаженном острове, где люди равны и напрямую общаются с богами, и сама царевна считает служанок подругами, вместе с ними стирает белье на берегу моря.
Несомненно, что, создавая эти работы, Серов не только восхищался поэтичностью гомеровских текстов, но и мечтал о «большом стиле» искусства, которое служило бы, подобно культуре античности, не пресыщенным «покупателям искусства», а народу, и было бы проникнуто чувством «насущного единения со Вселенной» (Ф. Достоевский «Сон смешного человека»).
При этом он, в отличие от иных современников, «мифологизировавших» действительность и «отлетавших» от нее в мир грез и фантазий, стремился передать чувство истины бытия, жившей в высших достижениях античности, и соединить трепетное чувство красоты природы и высокий символизм, «проявляющий» основы мироздания.
Известно, что над «Навзикаей» Серов любил работать на пустынном берегу моря под Петербургом, где у него была дача (перестроенная из рыбацкой избы), причем он очень боялся, что «кто-нибудь... выстроит перед самым носом какой-нибудь шато-лафит с вышкой — тогда отсюда беги вон» (Шато-Лафит — замок во Франции, ставший одним из образцов для часто «оскорбительной», по мнению Серова, архитектуры модерна — что-то вроде замка М. Галкина и А. Пугачевой под Москвой. Знал бы он, что век спустя, внучка академика Лихачева будет радостно сообщать по телевизору, что «сейчас это — престижные места, петербургская Рублевка»).
Символичным представляется, что последней «античной» работой Серова были эскизы росписей по мотивам «Метаморфоз» Овидия, причем один из сюжетов — «Аполлон и Диана избивают детей Ниобеи» близко перекликался с его ранним изображением прекрасного и яростного лучезарного бога. Этот сюжет, имеющий долгую историю в культуре (вспомним Пушкина: «Вот Аполлон — идеал, вот Ниобея — печаль»), видимо, воспринимался им в значении символа тяжелого, но неизбежного наказания, ожидающего тех, кто отказывается от высших идеалов.
Показательно, что к «Метаморфозам» обращался и Пабло Пикассо — в работах, где он прозревал сквозь лязг и грохот современной цивилизации чистые, светящиеся основы искусства и человечности.
В России же к «античному» Серову были, наверное, особенно близки те его ученики, которые в те же годы обращали взор к «светлой сущности» жизни, стремились «стереть случайные черты» и передать свою веру в лучшее будущее. Так, П. Кузнецов, создавая свои «Степи» — одухотворенные «поэтические схемы» мироздания, писал в 1910 году в сборнике «Куда мы идем?»: «Горящая душа художника мучительно радуется, воспринимая неразрешенный мир... В искусстве живописи должна быть связь с чувством трудового человека. Настанет время, когда к искусству приобщатся люди, смотрящие на небеса простыми, ясными глазами».
А К. Петров-Водкин вспоминал, что его картина «Играющие мальчики» (1911) была написана как «похоронный марш» на смерть Серова и Врубеля: «Дело вот в чем: умерли большие мастера — обеднела страна, чувствуешь одиночество, никто мне так, кроме них, из современников близок не был, и как звон этого настроения, как ответ — «А все-таки мы пробудим жизнь, а все-таки жизнь придет к своим безошибочным источникам». Я так объясняю содержание этой картины».
Конечно же, эти мастера (как и большинство лучших учеников Серова) не только не уехали из России после 1917 года, но и стали активными и искренними участниками обновления страны, создателями многих лучших произведений советского искусства 1920–1930-х годов.
О том же, что и какими методами пытаются сделать из Серова (и его учеников) нынешние «десоветизаторы живописи», будет рассказано в следующей, заключительной части этой статьи.