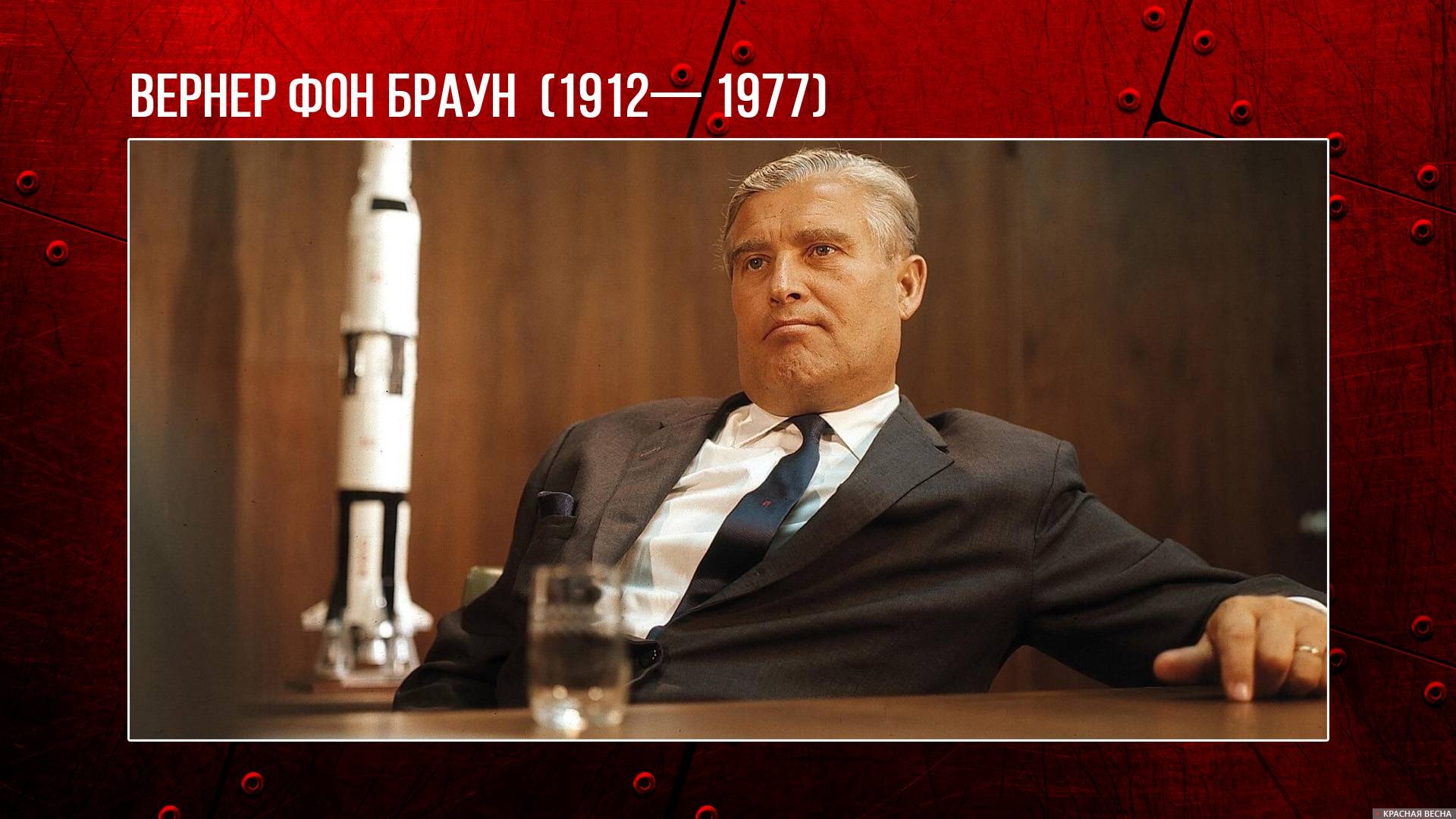О коммунизме и марксизме — 111

Большое влияние на формирование социально-философских взглядов Эриха Фромма оказал Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. Фромм был сотрудником этого института с 1929 по 1932 год. В рамках института сложилась школа, получившая широкую известность, и вошедшая в историю обществоведения под именем Франкфуртской социологической школы. Ее главные корифеи: М. Хоркхаймер, Т. Адорно и Г. Маркузе — весьма своеобразным образом интерпретировали марксизм. Именно их исследования в дальнейшем были взяты на вооружение Западом для борьбы с советским марксизмом.
Я никоим образом не хочу сказать, что Фромм был ангажирован западным капитализмом для борьбы с советским марксизмом. Фромм искренне ненавидел капитализм. Он был исключительно независимым человеком. Его научная известность была огромной и была сопоставима только с его бескорыстием. Поэтому ни о каком ангажементе не может быть и речи. Более того, какие-то слабые точки советского общества Фромм нащупал с большей точностью и конкретностью, чем другие западные обществоведы левого толка. И это было обусловлено искренним сочувствием Фромма всему тому, что худо-бедно противостояло капитализму.
Фромм горевал по поводу того, что советское общество не было в достаточной мере антикапиталистическим. Что советские лидеры взяли на вооружение принцип материального благополучия, с которым, по их мнению, в Советском Союзе должно было быть лучше, чем в США, и которое должно было распространяться на более широкие группы населения, фактически на всё общество. Фромм иронически называл такой подход «гуляш-коммунизмом». И он, конечно, был в этом абсолютно прав.
Но никогда — даже на брежневском, наихудшем этапе своего существования, — советское общество не было до конца гуляш-коммунистическим. Этого Фромм не хотел признавать. В том числе и потому, что для него была абсолютно неприемлемой любая репрессивность, не только сталинская, но и гораздо более сдержанная.
Для Фромма любая такая репрессивность носит авторитарно-патриархальный характер, адресует к тому хищническому «иметь», которое, по его мнению, находится в непреодолимом противоречии с благим и нерепрессивным «быть». Как только Фромм садится на этого своего любимого конька антипатриархальности, он превращается из умного и глубокого знатока марксизма в пропагандиста собственных идей, причем не только социально-психологических (тут Фромм выступает как неоднозначный, но глубокий мыслитель), но и собственно политических (тут место взрослого, глубокого, масштабного интеллектуала вдруг начинает занимать страшно далекий от реальности, бесконечно сентиментальный сочинитель). Речь идет чуть ли не о раздвоении личности.
И как только место первой личности (умной, серьезной и глубокой) занимает вторая (в наивности доходящая до благоглупости), становится как-то не по себе. Поэтому я просто не имею права рекомендовать читателю Эриха Фромма в качестве носителя определенного судьбоносного содержания. Хотя бы потому, что, рекомендуя Фромма в этом качестве, я должен был бы сказать, какого именно Фромма (Фромма-1 или Фромма-2) я рекомендую подобным образом.
Обсуждая политическое раздвоение личности великого человека, каковым безусловно является Фромм, невольно вспоминаешь ленинскую статью «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой Ленин говорил о таком же политическом раздвоении другой великой личности — Льва Толстого.
Анализируя позицию Толстого, Ленин, конечно же, не говорит о раздвоении его личности.
Во-первых, Ленин преисполнен глубочайшего уважения к Толстому.
Во-вторых, раздвоение личности вообще и политическое раздвоение как одна из модификаций раздвоения как такового — всё это не из ленинского политического лексикона.
Тем не менее, по сути, Ленин описывает именно раздвоение политической личности. Он пишет: «Сопоставление имени великого художника с революцией, которой он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно? Но наша революция — явление чрезвычайно сложное; среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед ними ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях».
Далее Ленин блестяще анализирует то, как именно либерализм использует, когда ему нужно, в своих целях всё, что ему сущностно глубоко чуждо, а возможно, и отвратительно.
Вот что Ленин пишет о либеральном задействовании Толстого: «На деле, рассчитанная декламация и напыщенные фразы о «великом богоискателе» — одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец, чтобы разыграть роль вождя общенациональной оппозиции, он старается громом и треском фраз заглушить потребность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кричащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости нашей революции они выражают?»
Далее Ленин беспощадно обнажает эти кричащие противоречия толстовства: «С одной стороны — замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс, с другой стороны — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием».
Предлагая читателю развернутую картину толстовских противоречий (я здесь привожу лишь самые яркие фрагменты этой картины), Ленин далее задается вопросом о природе этих противоречий.
Он пишет: «Противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать <...> с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней.
Толстой смешон как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции».
Переходя от общей характеристики тех сил, которые действовали и бездействовали в ходе первой русской революции, к тому, что можно назвать трагическим содержанием этой революции, Ленин пишет: «И, как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интереса к ней и понимания ее, делали то, что за сознательным и революционным пролетариатом шло меньшинство, большинство же было добычей тех беспринципных, холуйских, буржуазных интеллигентов, которые... бегали с собрания трудовиков в переднюю Столыпина, клянчили, торговались, примиряли, обещали примирить, — пока их не выгнали пинком солдатского сапога».
Называя такую аполитичность «историческим грехом толстовщины», Ленин пишет: «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс, и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании».
Перед тем как вернуться к Фромму, я ознакомлю читателя с размышлениями о политичности и аполитичности (вся суть ленинской статьи о Толстом для меня именно в этом), которые принадлежат не Ленину, этому политическому гению, пронизанному всеобъемлющей политической страстью, а человеку, далекому от реальной политики — Томасу Манну. В своей статье «Культура и политика» Манн пишет: «Да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен включать его, и что в проблеме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент».
Анализируя так называемую аполитичность великого немецкого философа Артура Шопенгауэра, Манн пишет: «Дело в том, что отказ культуры от политики — заблуждение, самообман; уйти таким образом от политики нельзя, можно лишь оказаться не в том стане, питая, сверх того, страстную ненависть к противнику».
Констатируя это, Манн приходит к выводу о том, что аполитичность представляет собой фактическое самоубийство духа, что, поддаваясь духовной брезгливости и пренебрегая политикой, дух на самом деле «бросает вызов всему духовному». И предлагает читателю рассмотреть эту общую коллизию на конкретном примере Шопенгауэра, который в 1848 году не встал на сторону народа, называя народ «всевластной сволочью» (в наше время его называют «мухами», «анчоусами», «ватниками», «колорадами» или просто быдлом).
Манн с горечью говорит о том, что Шопенгауэр предложил офицеру, который вел из его окна наблюдение за баррикадами, свой театральный бинокль для того, чтобы тому было удобнее вести огонь по мятежникам. Манн спрашивает интеллигенцию своей эпохи, восхищающуюся пессимистическим учением Шопенгауэра: «Это ли называется стоять выше политики?
Ведь это просто ненависть реакционера, и духовные причины этого чувства нам вполне очевидны».
Далее Манн начинает анализировать источники подобной политической аполитичности и предлагает обсудить «в какой степени антиреволюционность Шопенгауэра логически и идейно коренится в его миросозерцании». Манн задается вопросом о том, не вытекает ли эта аполитичность логически и идейно из этического пессимизма Шопенгауэра, из того исповедуемого им культа «креста, смерти и могилы», который, как считает Манн, фундаментально враждебен тому, на чем базируется слишком элементарный для адептов этого культа классический гуманизм.

Ленин пишет об аполитичности Толстого. Будучи марксистом, он видит ее причины не в национальном, а в классовом характере. Аполитичность, по мнению Ленина, — роковая болезнь патриархального крестьянства. Но ведь и интеллигенции тоже! Ленин объясняет, с чем связана аполитичность, а точнее противоречивость позиции русского патриархального крестьянства. Но он не проводит такого же анализа причин аполитичности позиции русской интеллигенции. Ленин просто высмеивает эту позицию, всё более и более горько высмеивает ее раз за разом. Одним образом он ее высмеивает до прихода к власти. Другим — после прихода.
Вот что пишет об этом Горький, вспоминая свою беседу с Лениным в разгар Гражданской войны: «Я пришел к нему, когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение, он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:
— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет. <...>
Через несколько минут Ленин азартно говорил:
— Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, — фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их — нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она еще никогда не запутывалась. <...>
— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения.
Он засмеялся и беззлобно сказал:
— За это мне от интеллигенции и попало по шее».
Когда Манн говорит о политическом безволии немецкого понятия «культура», что он имеет в виду в социально-политическом плане? Он имеет в виду политическое безволие немецкой интеллигенции.
Когда Ленин говорит о политическом безволии Льва Толстого, что он имеет в виду в социально-политическом плане? Только ли политическое безволие патриархального крестьянства? Формально он говорит об этом. А по существу?
Как мне представляется, существо ленинской оценки Толстого состоит в том, что, критикуя положение вещей, Толстой выступает в качестве аккумулятора противоречивой народной энергии, энергии этого самого патриархального крестьянства, которое пошло на немыслимые жертвы в ходе Гражданской войны, коллективизации и Великой Отечественной войны, а также послевоенного восстановления.
Смешно и стыдно знакомиться с рассуждениями по поводу того, что крестьянство было вынуждено принести эти жертвы на алтарь советизма, что его принудили к этому репрессии. Крестьянство было большинством населения. Принудить к чему-либо большинство населения в принципе невозможно. И уж тем более — в ходе беспощадной войны с фашизмом.
Крестьянство многого не могло осмыслить, но оно многое чувствовало. И в первую очередь — разницу между справедливым и несправедливым, праведным и неправедным. Почувствовав эту разницу, оно сделало свой выбор. И — прекрасно понимая, какую цену придется за него заплатить — крестьянство заплатило за свой выбор необходимую поистине страшную цену.
В знаменитой «Конармейской песне» есть такие слова:
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход.
Осмыслим эти простые слова с точки зрения социально-политической практики — пусть не крестьянской в строгом смысле этого слова, а «красно-казацкой». Всё равно эта практика, по сути своей — крестьянская, причем речь идет о практике низших, наиболее уязвимых в социальном плане слоев «полуказаческого крестьянства».
Что ценнее всего для такого крестьянства? Ценнее всего для него лошадь. Что значит поднимать коней в поход? Это значит рисковать тем, что имеет для тебя особую ценность, что в социальном плане для тебя, возможно даже, дороже жизни. Конечно, влившись в конармейскую массу, ты вместо поднятого в поход коня можешь, если не погибнешь в бою, получить другого коня, возможно, что-то и выиграть. Но для того, чтобы выиграть, надо нечто дорогое для тебя поставить на кон в этой игре. А если не выиграешь, а проиграешь? Какое чувство может побудить к участию в подобной игре, где ставкой является всё, что тебе дорого? Ведь такая игра — это уже и не игра вовсе. Что может побудить к подобному деянию простого крестьянина?
Конармейская песня кончается словами про любимого наркома и про то, что в случае большой войны конармейцы снова будут вести на этот бой своих боевых коней. Но все мы понимаем, что при фантастическом героизме этого нового боя, он же — Великая Отечественная война, новый бой очень сильно отличался от того предшествующего боя, который именовался Гражданской войной. Потому что во время Великой Отечественной войны стратегические решения за человека, идущего на войну, принимало государство. Оно обеспечивало этого человека лучше или хуже всем необходимым и оно регламентировало его поведение. Какая-то свобода выбора, конечно же, оставалась: струсить и бежать с поля боя или погибнуть, сражаясь, прийти на призывной пункт добровольцем или проявлять изобретательность, добиваясь отсрочки или так называемой брони.
Но эта степень свободы не та, которая существует на гражданской войне, где всё определяет личный выбор простого человека, в случае России — по большей части простого крестьянина. Характер этого выбора во многом определил результат Гражданской войны.
Нельзя сбрасывать со счетов фактор пролетариата, воевавшего на фронтах и трудившегося в тылу. Нельзя сбрасывать со счетов и роль большевиков. Но всё равно многое решало крестьянство — и в Гражданскую войну и впоследствии.
Рано или поздно простой народ делает свой выбор. И этот выбор определяет исторический результат.
Рано или поздно свой выбор делает и господствующий класс, эта самая буржуазия, собирающая под свои знамена всё, что пронизано волей к господству.
Возникает неустойчивое равновесие. Чаши весов колеблются. Результат зависит во многом от поведения интеллигенции. Причем речь идет не только о прямом политическом результате, то есть о победе или поражении простого народа. Речь идет и о долговременных последствиях того или иного поведения интеллигенции. Ленин прямо говорил об этом Горькому:
«Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков».
Что имел в виду Ленин, когда говорил о разбитых горшках? Что значит «слишком много»?
Ленин восхищался гением Толстого и одновременно анализировал противоречивость этого великого художника и мыслителя. Но самое яркое в ленинской оценке Толстого, как мне представляется, сказано Лениным в разговоре с Горьким: «И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».
Сказав это, Ленин с гордостью спросил Горького: «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Некого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный».
Так кто же для Ленина находится на отрицательном полюсе того толстовского противоречия, положительным полюсом которого является первый пришедший в мировую литературу подлинный мужик? Ведь не этот же мужик находится на другом полюсе? И не мужика описывает Ленин, говоря о сюсюканьях толстовцев. Он интеллигента описывает — того самого, к которому, если верить Горькому, Ленин относился и с прагматической заботливостью (их надо завоевывать, без них нам не справиться), и с фундаментальным недоверием.
Как нам сегодня сохранять такое же отношение к той же социальной группе, необходимость которой уравновешивается ее загадочной деструктивностью? И нужно ли нам сохранять подобное отношение? Или же уроки распада СССР и других конфликтов, в которых эта социальная группа постоянно демонстрирует собственную патологичность, порождающую губительные макросоциальные последствия, должны побудить нас к иному взгляду на эту группу? Какому именно? И как с учетом данного обстоятельства нам надо относиться к рассуждениям глубоких и блистательно образованных левых западных интеллектуалов, таких как Фромм? Что в их рассуждениях надо принять, а что отвергнуть?
Что-то очень крупное и тревожное формируется с давних пор внутри того, что привычно именуется интеллигенцией. Это крупное и тревожное нельзя спрятать за обтекаемыми рассуждениями о двух интеллигенциях, хорошей и плохой. Речь идет не о диссоциации отдельных личностей, не о диссоциации классовой, а о чем-то большем. Скажем так, о диссоциации ноосферы, при которой воля начинает противостоять мысли, порождая этим противостоянием распад самих основ подлинного человеческого бытия.
Мысль — не только на уровне отдельного человека или социальной группы, но и в целом — надрывно пытается соединиться с волей. Порой ей это еще удается, но всё реже и реже. При этих редких соединениях возникают какие-то нужные проблески. Но они возникают и исчезают. Как их улавливать? И как относиться к тому, что проблески возникают всё реже и реже?
Ведь нельзя же перейти на позиции махровой интеллигентофобии. Именно это неправомочно вменяется Ленину. И именно это подхватывается людьми, которых справедливо возмущает поведение интеллигенции в роковые моменты истории. Это возмущение порой приводит к тому, что клевета на Ленина поддерживается по принципу «ну сказал он, что интеллигенция — это не мозг нации, и слава богу! Правду сказал мужик! Его в этом надо поддержать на все 100 %». Но что же на самом деле сказал Ленин, которому приписывается крайняя ненависть к интеллигенции? Как он к интеллигенции относился на самом деле? И почему так важно сегодня преодолеть стереотипные ответы на этот вопрос?
Наши антисоветчики, будучи прекрасно осведомленными о том, что Ленин проявлял огромную и сугубо прагматическую заботу по поводу вовлечения интеллигенции в советскую политическую систему, прицепились к его фразе из письма Горькому от 15 сентября 1919 года.
В письме говорится: «Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров вроде сдачи Красной Горки, заговоров, грозящих гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян».
Короткая справка по поводу Красной Горки. Речь идет о восстании гарнизонов форта «Красная Горка» и батареи «Серая Лошадь» против Советской власти в июне 1919 года. Оно было подавлено кораблями Красного Балтийского флота и морским десантом. А также частями рабоче-крестьянской Красной Армии. Подавлением восстания командовал Сталин.
Восстание подготавливали белогвардейцы и эсеры, входившие в подпольную организацию «Национальный центр». Массовой опорой бывших офицеров, составлявших костяк «Национального центра» являлись матросы, распропагандированные эсерами.
Сдача Красной Горки привела бы к укреплению позиций военно-морского флота Великобритании и сотрудничавшего с этим флотом белогвардейского Северного корпуса русских добровольцев.
Северный корпус русских добровольцев создавался германской армией, начиная с августа 1918 года, когда в Пскове прошли первые совещания представителей белогвардейцев и немецкого военного командования.
В ноябре 1918 года Германия потерпела поражение. После чего корпус начал отступать в арьергарде германских частей, прикрывая эти части от нападения Красной Армии.
Выяснилось, что Эстония готова принять этот корпус на свою территорию, а Латвия не готова.
Корпус был принят на территории Эстонии, то есть фактически перешел на эстонскую службу и выполнял задачи по защите Эстонии.
К апрелю 1919 года корпус договорился с англичанами, которые относились к нему с большим подозрением. Корпус был преобразован в армию.
Начав наступление с территории Эстонии на Россию, Северная армия вступила в глубокое взаимодействие с «Национальным центром», готовившим подпольно антибольшевистское восстание. Взаимодействие между Северной армией и «Национальным центром» осуществлялось с помощью английских дипломатов и британских морских офицеров.
У Ленина были все основания для того, чтобы говорить Горькому о крайних негативных последствиях такой интеллигентской затеи, как восстание на Красной Горке.
Никаких массовых репрессий против восставших большевистская власть не осуществляла. Она обошлась с руководителями восставших по законам военного времени, но этим всё и ограничилось. Французский Конвент в аналогичных ситуациях действовал неизмеримо более свирепо.
Ленин пишет Горькому по поводу недопустимости избыточной защиты тех, кто организует заговоры вроде сдачи Красной Горки. Им он дает ту нелицеприятную характеристику, которая так возмутила наших антисоветчиков: мол, Ленин всех интеллигентов называет не мозгом нации, а дерьмом.
На самом деле Ленин пишет: «Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно».
И тут же говорит о необходимости предупреждения заговоров вроде Красной Горки ради спасения от гибели десятков тысяч людей. В словах Ленина нет никакого преувеличения.
Ленин не блефует, сообщая Горькому о том, что «мы эти заговоры кадетов и «околокадетов» открыли. И мы знаем, что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам помощь. Это факт.
Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г..но
«Интеллектуальным силам», желающим нести науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат Красной Армии и побеждают вопреки сотням изменников. Это факт».
Говорить на основе этого текста о том, что Ленин одержим антиинтеллигентскими настроениями, могут только отпетые мошенники. Но можно ли ограничиться такой констатацией и сказать, что Ленин — не интеллигентофоб, а интеллигентофил? Или что он делит интеллигенцию на хорошую и плохую? Мне представляется, что такие оценки очень поверхностны и не отражают глубины противоречия.
При том, что позиция Фромма для меня — это, с одной стороны, позиция глубоко и страстно мыслящего интеллектуала высшей пробы, а с другой стороны, позиция интеллигента. И именно там, где Фромм и его коллеги выступают как интеллигенты, интеллектуальная сила превращается в слащавую слабость, глубокое видение предмета — в вопиющую слепоту.
То же самое происходит с Толстым и многими другими. Причем с роковой неизбежностью политическая слепота и политическое безволие превращаются в безволие сущностное, фундаментальное. А вслед за таким безволием немедленно возникает и интеллектуальное бесплодие.
Что это означает, и чем чревато в нынешней ситуации? И как в этой ситуации надо относиться к оценкам Маркса, даваемым такими мыслителями, как Фромм? Как тут отделить слабость от силы, зоркость от слепоты? Ведь нельзя же походя, испугавшись слабости и слепоты, отторгнуть нужную нам зрячесть и силу!
(Продолжение следует.)