Мост через пропасть

Доклад на Летней школе движения «Суть времени».
Александровское, 11 июля 2016 года
XXVI
Каждый раз, когда пытаешься обсудить масштаб катастрофы и пути выхода из нее, наталкиваешься на одно и то же обстоятельство. Слишком многие, в том числе и из тех, кто сильно переживает происходящее, не хотят понять, какой вполне конкретный, вполне практический ужас кроется за словосочетанием «катастрофа смысла». Людям все-таки кажется, что ядерная война, Чернобыль, экологические катастрофы — это действительно серьезно. Даже финансовый дефолт тоже серьезен, потому что конкретно разоряет людей, а это не шутки — быть разоренными в буржуазной стране. А катастрофа смысла — это, конечно, очень мрачная, обидная и даже опасная вещь. Но это не ковровые бомбардировки эпохи Великой Отечественной войны и даже не донбасские ужасы.
На самом деле катастрофа смысла очень практична. Конечно, страшно потерять сбережения. Но если ты обладаешь смыслами и другие ими обладают, то вы сплотитесь, сожметесь, уплотнитесь, сдадите квартиру, сделаете что-нибудь еще, придумаете работу, вы не озлобитесь, не запаникуете, не впадете в паралич, не пуститесь в какие-нибудь совсем губительные авантюры, вы не полезете в петлю, не заболеете окончательно гибельным образом. Главное — вы не сломаетесь, обладая смыслами, и не окажетесь в одиночестве. А если вы не сломаетесь и не окажетесь в одиночестве, то вы выстоите. Вы даже мобилизуетесь больше. Поэтому беда, возможно, откроет для вас новые возможности. Но всё это потому, что у вас есть смыслы, а если у вас их нет, то все ваши конкретные действия будут действиями сломленных или надломленных людей. А такие действия всегда контрпродуктивны. И даже малая неприятность окажется в этих условиях непереносимой.
Очень важно понять, что катастрофа смыслов (а нынешняя молодежь сформировалась в условиях смыслокатастрофы) — это на практике самая страшная из всех возможных катастроф. Она не должна обсуждаться с высоты птичьего полета. Под каким практическим, приземленным даже углом зрения это ни рассматривай, всё равно правильный взгляд обнаружит практическую ужасность именно такой катастрофы и ее способность порождать бесконечные чудовищные практические последствия.
Если смыслокатастрофа происходит, исчезает личность, исчезают общности и исчезает стойкость. Такие исчезновения порождают и не могут не породить множественных конкретных губительнейших последствий. А также определенной травмированности этими последствиями, да и самой смыслокатастрофой.
Повторяю, все, кто начинают ее оценивать, инстинктивно или по неразумию снижают ее губительность в сотни, а то и тысячи раз. И тут хотите — читайте Франкла с его смыслокатастрофами, а хотите — просто берите голову в руки и открывайте глаза. Я описал только несколько последствий смыслокатастрофы для молодежи, которую в такой катастрофизм окунули. И поймите, что радиационный лучевой удар практически менее страшен, чем потеря смыслов, разрушающая все конкретные ткани бытия.
Когда меня спрашивают, почему имеющийся красный след таков, каков он есть, и почему этот след не создает вокруг себя полей особого притяжения, не создает мощной периферии, состоящей из тех, кто обладает хотя бы размытыми неосоветскими предпочтениями, я отвечаю: «При таких повреждениях, которые организовал враг, этого следа не должно было возникнуть вообще. Он должен был быстро распасться и уж ни в коем случае не наращивать качество».
Так что произошедшее — это рукотворное чудо. Наше общее чудо. Но нельзя же закрывать глаза на то, что повреждения существуют. И что превращение описанных мной простейших регистраций импульса, простейших реакций на этот импульс — в то, что должен выдавать на-гора настоящий борец с огромной бедой, — это нечто почти невозможное.
XXVII
И пока это почти невозможное каким-то страстным коллективным усилием не будет осуществлено, не произойдет главного — искупления. А ведь именно оно должно произойти для того, чтобы началось возрождение страны. Или, точнее, воскресение страны и общества. Потому что сейчас налицо особое смертное существование и того, и другого — существование, прекрасно описанное в начале XX века замечательным русским поэтом Андреем Белым. Стихотворение это называется «Веселье на Руси». Оно написано в 1906 году.
Как несли за флягой флягу —
Пили огненную влагу.
Д’накачался —
Я.
Д’наплясался —
Я.
Дьякон, писарь, поп, дьячок
Повалили на лужок.
Эх —
Людям грех!
Эх — курам смех!
Трепаком-паком размашисто пошли: —
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали:
Трепака да на лугах,
Да на межах, да во лесах —
Да обрабатывай!
По дороге ноги-ноженьки туды-сюды пошли,
Да по дороженьке вали-вали-вали —
Да притопатывай!
Что там думать, что там ждать:
Дунуть, плюнуть — наплевать:
Наплевать да растоптать:
Веселиться, пить да жрать.
Гомилетика, каноника
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника!
Дьякон пляшет
— Дьякон, дьякон
Рясой машет
— Дьякон, дьякон
Что такое, дьякон, смерть?
— «Что такое? То и это:
Носом — в лужу, пяткой — в твердь...»
. . . . . . . . . . . . . .
Раскидалась в ветре, — пляшет —
Полевая жердь —
Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь.
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала Смерть.
В 1906 году Андрей Белый, обладая необходимыми метафизическими датчиками, ощутил, что над страной стоит некое метафизическое существо под названием смерть Родины, а может быть, и смерть человечества.
В 1917 году худо-бедно удалось изгнать смерть или, по крайней мере, удалось отсрочить ее пришествие. После 1991 года это второе пришествие наступило. Может быть, оно и не второе, а третье или не третье, а четвертое. Важно не это.
Важно то, что смерть сама собой не отступает. Ее изгоняют пассионарии, решившие спасти Родину. И способные на нужный в ту или иную эпоху тип подвига. Тип подвига зависит от того, в каком обличье приходит смерть. Иногда она приходит в простейшем обличье гитлеровского захватчика, а иногда — в обличье гораздо более сложном. Сейчас она пришла в родную страну в невероятно сложном обличье. А страна не готова к этому приходу более, чем когда бы то ни было.
Кроме того, пассионариев удалось действительно сильно повыбить. А состояние четвертого этажа у многих из них таково, что они — и низкий им поклон за это — могут просто откликнуться на простое. Еще раз подчеркну, что если бы этого отклика не было, то всё было бы уже проиграно, но если им всё ограничится, то всё будет проиграно.
Необходимое действие, способное это предотвратить, относится к разряду почти невозможного. Но поскольку без такого действия перестройка-1 рано или поздно обернется тем или иным вариантом перестройки-2, необходимо обсудить, во-первых, чем же, с практической точки зрения, является это невозможное. И, во-вторых, каковы преграды на пути его реализации. Каковы они, эти реальные преграды, придающие необходимому действию статус действия почти невозможного?
Отвечать на этот вопрос я буду сообразно его сложности и масштабности. При этом моя задача состоит в том, чтобы в итоге этот ответ был практически ценным.
XXVIII
Через века и тысячелетия красной нитью проходит несколько фундаментальных полемик по вопросу о том, что такое человек. Одна из них строится вокруг вопроса о том, задаваем ли человек полностью внешними факторами или он всё же является существом, имеющим внутри себя нечто, способное сопротивляться воздействию внешних факторов, то есть существом, в большой степени задаваемым факторами внутренними.
Итак, задается ли человек полностью внешними влияниями? Повторяю, что в зависимости от того, так это или не так, по-разному надо отвечать на главный вопрос: «Что такое человек?» А в зависимости от ответа на этот вопрос надо по-разному отвечать на вопрос о том, можно ли совершить то, что необходимо и почти невозможно, а также на вопрос о том, как это осуществить.
Хочу обратить внимание собравшихся на то, что мыслители, которые на протяжении тысячелетий — да-да, буквально тысячелетий! — говорили, что человек задается внешними влияниями не полностью, не утверждали, что он этими внешними влияниями вообще никак не задается. Они говорили только, что он внешними влияниями задается не до конца. А те, кто с этими мыслителями спорил, отвечали: «Нет, до конца, до конца! Нет в человеке ничего собственно человеческого, задаваемого чем-либо, кроме внешних влияний».
Такой фундаментальный спор называют иногда спором по поводу чистого листа. Но если я просто скажу, что хочу рассмотреть спор по поводу чистого листа, и начну называть имена спорящих, то может возникнуть ситуация определенной растерянности, сопровождающаяся попытками быстро заглянуть в интернет.
Поскольку для большинства собравшихся и эти имена, и сама концепция чистого листа, по латыни именуемого tabula rasa, не являются чем-то знакомым и понятным, постольку взятие всего этого в виде стартового пункта обсуждения — ошибочно. Но почему вообще надо, наряду с политикой как таковой, обсуждать подобные сложные темы?
Потому что у этих сложных тем есть, скажем образно, интеллектуальные и политические дети, внуки и правнуки. То есть сугубо практические политические темы, полностью зависимые от сложных тем, непонимание которых делает политика стратегически беспомощным. Для преодоления этой стратегической беспомощности нужно сочетать обсуждение каких-то практических политических вопросов с вопросами общего характера. Повторяю, это нужно именно сочетать, а не отрывать одно от другого.
Кое-какие практические, собственно политические или политико-метафизические вопросы я уже обсудил. Теперь хотелось бы обсудить общие идеи, отчасти порождающие как эти вопросы, так и неполную эффективность ответов «Сути времени» на предельно конкретные вызовы. Так что я не буду заниматься общими идеями как таковыми. Я достаточно быстро выйду на их прикладное значение.
XXIX
Что же касается общих идей, которые связаны с вопросом о степени заданности человека внешними воздействиями и обстоятельствами, то их обсуждение мне придется начать с кратких биографических сведений. Это необходимо сделать, исходя из принципиальных соображений, относящихся к тому, что можно назвать объемом и глубиной обсуждаемого содержания. Но это вдвойне необходимо сделать, поскольку в современном мире вообще и на наших школах в частности отсутствие сообщаемых биографических сведений при назывании очень многих известных имен вызывает растерянность, очень напоминающую ту, с которой герой фильма «Чапаев» реагирует на упоминание об Александре Македонском: «Кто такой? Почему не знаю?»
Напомню собравшимся, что именно порождает эту реакцию Чапаева.
Приехавший к Чапаеву комиссар Фурманов начинает перечить народному герою Чапаеву. Чапаев реагирует на это крайне негативно и даже угрожает застрелить комиссара Фурманова. Обнаружив, что у него под рукой нет револьвера, Чапаев, чтобы разрядиться, разбивает табуретку. Фурманов, реагируя на это, говорит Чапаеву: «Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать?»

Предлагаю собравшимся вдуматься в ситуацию, которая не так проста, как кажется, и имеет самое прямое отношение к современности вообще и к нашему движению в частности.
Фурманов произносит эту фразу про Александра Македонского (являющуюся цитатой из комедии Н. Гоголя «Ревизор»), потому что для него «Ревизор» Гоголя вообще и крылатая фраза Городничего об Александре Македонском — это очевидные, сами собой разумеющиеся культурные единицы. Но это единицы культуры Фурманова — культуры разночинной интеллигенции царской империи. Это чуть ли не крылатая фраза для определенных, достаточно широких слоев населения. Но не для того слоя, к которому принадлежал Чапаев. Позже, когда такие, как Чапаев, победят в Гражданской войне и начнут строить новую жизнь, в советской школе снова будут проходить «Ревизора» Гоголя, еще более активно, чем в досоветский период. И фраза Городничего про Александра Македонского станет совсем расхожей. Она станет несомненной культурной единицей фактически для всего советского общества.
А теперь мы живем в постсоветском обществе. Может быть, в школе и проходят «Ревизора». Но я совершенно не уверен, что даже для всех собравшихся в этом зале, в основном учившихся в лихие девяностые годы, эта фраза Городничего является несомненной культурной единицей. Как и «Ревизор» в целом. Поэтому я напомню собравшимся тот великолепный эпизод из «Ревизора», в котором Городничий говорит про некие обнаруженные им перегибы в поведении учителя истории, преподающего в местной гимназии.
«Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне».
Смотритель училищ Лука Лукич пытается защитить своего подчиненного, которого критикует Городничий.
«Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».
«Городничий (внутренне сочувствуя Луке Лукичу — С.Е.). Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек либо пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси».
Повторяю, советский зритель, смотревший фильм «Чапаев», проходил на уроках литературы «Ревизора» Гоголя. И для него фраза «Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» была несомненной единицей его культуры. Чем-то типа крылатого выражения. Он мог забыть многое в «Ревизоре» — например, про «неизъяснимый закон судеб», — но эту фразу он помнил. И он знал, что почти все советские люди ее помнят.
Соответственно, он с пониманием относился и к литературной некомпетентности Чапаева, и к яркости реакции Чапаева на что-то для него непонятное, но важное. В постсоветском обществе всё это не гарантировано. И при просмотре фильма «Чапаев» у постсоветской молодежи, яростно защищающей советское, но уже пораженной декультурацией и не знающей или не помнящей «Ревизора», вполне может возникнуть вопрос: «А с чего это Фурманов начал говорить об Александре Македонском? Да еще и тему сломанной табуретки ввел в оборот в связи с таким разговором?»
Вот что такое декультурация, осуществленная за последние 25 лет. Она есть мощнейший вызов, на который надо ответить. И этих вызовов много. Десоциализация... Эмоциональная депривация (то есть неспособность к глубокому и убедительному выражению содержательных эмоций)... Глубокая непреодоленная травма, порожденная полным осознанием смертности в условиях дефицита крупных общественно значимых смыслов жизни... Сам этот смыслодефицит, который можно назвать «делогосизацией» (логос — это смысл)...
Но вернемся к фильму «Чапаев». Услышав про Александра Македонского, Чапаев, который не читал «Ревизора» Гоголя, реагирует так:
«Чапаев. Македонский? Полководец? Кто такой, почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди. Наполеон. Суворов. А этот как... Македонский? Кто такой? Почему не знаю?»
Фурманов отвечает: «Ну, его мало кто знает. Он жил две тысячи лет назад».
Чапаев на это: «Да, ты-то вот знаешь, и я знать должен».
Чапаев, успокоившись, начинает петь песню «Ты моряк, красивый сам собою».
Фурманов, пользуясь случаем, говорит ему о том, что давно уже накипело: «Слушай, ты, моряк, красивый само собою... Ты бы подтянулся что ли, малость? Ходишь вечно в таком затрапезном виде. («В затрапезном виде» — это как когда у нас на школе на лекции ходят в шортах. — С.Е.) А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии. Должен бойцам пример давать».
«Чапаев (возвращаясь к теме Александра Македонского, которая запала ему в душу — С.Е.). Что ж твой Александр Македонский в белых перчатках воевал, да?
Фурманов. Но и не ходил как босяк!
Чапаев. А ты почем знаешь? Это две тысячи лет назад было. Гляди у меня...»
Я потратил время на этот сложно построенный экскурс в культуру, во-первых, для того, чтобы показать, как трудно почитателям советского, живущим в постсоветскую эпоху в условиях декультурации, понимать содержание великих советских фильмов. И, во-вторых, для того, чтобы ввести в оборот крылатое когда-то выражение «Кто такой, почему не знаю?»
Если я сейчас, обсуждая неочевидные общие идеи, начну оперировать именами, столь же незнакомыми современным постсоветским почитателям советскости, сколь незнакомо было Чапаеву имя Александра Македонского, то часть слушателей спросит меня: «Кто такие, почему не знаем?» Поэтому я должен сначала сообщить, кто такие те, чьими идеями я намерен развернуто оперировать.
Но даже если эти имена знакомы части собравшихся, всё равно для объемности и глубины изложения надо еще раз обсудить не просто то, кто такие — обладатели этих имен, но и каково их всемирно-историческое значение.
XXX
Итак, когда говорят о человеке как о сумме внешних влияний или как о чистом листе (tabula rasa), на котором эти внешние влияния пишут текст, задавая этим полностью человеческую личность, то ссылаются на авторитет великого британского философа и педагога XVII века Джона Локка (рис. 17).

Дабы ни у кого не возникло вопроса «Кто такой, почему не знаю?», сообщаю необходимые сведения. Джон Локк родился в 1632 году и умер в 1704-м.
С момента, когда Локк сформулировал свои основные философские и педагогические идеи, прошло более 350 лет. Но идеи Локка вообще и его идеи о tabula rasa в первую очередь до сих пор востребованы. И более того, именно опираясь на эти идеи, мир двигают в том направлении, которое нам представляется пагубным, детей учат определенным образом, людей воспитывают и формируют опять-таки определенным образом. Так что Локк умер, а идеи его живы и влияют на то, как именно реализуется сегодня проект под названием «Человек».
Джон Локк поступил в знаменитую британскую Вестминстерскую школу в 1646 году и окончил ее в 1652-м. Уже во время учебы в школе он проявил выдающиеся способности, считался одним из лучших учеников.
Сразу же после окончания Вестминстерской школы Джон Локк, имея превосходный аттестат, поступает в Оксфордский университет. В 1656 году Локк получает степень бакалавра Оксфордского университета, а в 1658-м — степень магистра этого университета.
Начиная с 1667 года, Локк прочнейшим образом связывает свою человеческую, научную и политическую судьбу с известным британским аристократом лордом Энтони Эшли-Купером, ставшим впоследствии графом Шефтсбери.

Лорд Эшли весьма специфически себя вел в ходе Английской буржуазной революции. Он перешел из лагеря сторонников Карла I Стюарта в лагерь сторонников парламента, казнившего этого британского государя, потом вместе с Монком способствовал реставрации Стюартов, при Карле II был лордом-канцлером, затем опять перешел в оппозицию.
Каждая великая буржуазная революция рано или поздно кончается постреволюционной диктатурой. При этом постреволюционный диктатор тем или иным способом оформляет результаты революции, не отказываясь от ее основных завоеваний. Во Франции роль постреволюционного диктатора сыграл Наполеон Бонапарт, в Британии, где революция произошла на полтора столетия раньше, эту же роль, но по-другому, сыграл знаменитый Оливер Кромвель, который сначала был революционным вождем, потом стал постреволюционным диктатором (лордом-протектором). При Оливере Кромвеле лорд Эшли входит в число парламентских оппозиционеров, оказывавших Кромвелю сдержанное противодействие. После смерти Кромвеля Эшли вместе с политическим наследником Кромвеля генералом Джорджем Монком (1608–1670) содействует реставрации Стюартов.
После реставрации лорд Эшли делает стремительную карьеру. Он становится одним из главных судей, разбиравшихся со злодейскими для Стюартов революционными событиями вообще и с казнью короля Карла I в частности, после этого возводится в звание пэра, назначается канцлером казначейства, затем — лордом-канцлером.
Эшли входит в пятерку членов тайного совета, так называемого «министерства КАБАЛь» (CABAL — аббревиатура, составленная из первых букв титулов составлявших группу министров) или министерства Интриги («cabal» по-английски значит «интрига, заговор»). Задача министерства — вернуть в Британию феодальный абсолютизм, сведя к нулю завоевания английской буржуазной революции.
Решение этой задачи натолкнулось на широкое противодействие со стороны разных слоев тогдашнего британского общества. На улицах Лондона и других городов распевали песню: «Как может государство процветать, когда им управляют эти пять».
Когда Карл II Стюарт занялся не только реставрацией феодализма, но и сдачей национальных интересов Франции, благодаря поддержке которой он смог вернуться на престол, лорд Эшли возглавил оппозицию и вышел из состава тайного совета.
Когда парламент, в котором час от часу крепли оппозиционные настроения, был разогнан, Эшли объявил этот разгон незаконным и был заключен в лондонскую крепость Тауэр.
Он вышел из тюрьмы, мастерски маневрируя между различными силами, ненадолго стал аж председателем тайного совета. В результате контригры он был смещен со своего поста и обвинен в государственной измене. Проявив недюжинную волю, смелость и полемическое мастерство, Эшли добился своего оправдания.
Затем Эшли примкнул к заговору. Этот заговор провалился, и Эшли эмигрировал в Голландию.
Джон Локк стал сначала домашним врачом и воспитателем сына Эшли. Потом с благословения Эшли занялся политической деятельностью, написав несколько посланий о веротерпимости. Потом, опять же по поручению Эшли, Локк пишет конституцию для провинции Каролина в Северной Америке.
Политическая и интеллектуальная деятельность Локка дает свои плоды. Локка избирают членом королевского общества, затем — членом высшего Совета королевского общества.
В 1671 году Локк приступает к написанию своего фундаментального труда «Опыт о человеческом разумении». Именно написание этого труда сделало Локка в определённом смысле властителем дум на протяжении столетий. Политическая карьера Локка полностью зависит от взлетов и падений Эшли. Локк эмигрирует в Голландию вместе с Эшли. И возвращается в Англию после того, как осуществляется так называемая Славная революция, посадившая на королевский трон представителя и ставленника ганноверской немецкой династии Вильгельма Оранского.
Вернувшись на родину после этой революции в 1688 году, Локк в 1690 году издает свой знаменитый «Опыт о человеческом разумении», а также книгу под названием «Два трактата о правлении».
В 1693 году Локк издает свои ничуть не менее знаменитые, чем «Опыт о человеческом разумении», «Мысли о воспитании».
Локк умирает от астмы в 1704 году.
Его теория «чистого листа», согласно которой человек является этим самым «чистым листом», на котором внешним по отношению к нему миром написаны все письмена, именуемые собственно человеческим содержанием, живет до сих пор. И именно она, внедряясь в воспитательную практику, во все практики формирования человеческой личности, сулит нам в случае своего окончательного триумфа такой глобальный Освенцим, по отношению к которому нацистские лагеря смерти окажутся территориями, сохраняющими для человека какие-то гуманистические возможности.
XXXI
Нельзя сказать, что не было и нет интеллектуального и практического сопротивления теории Локка и ее применению на практике.
Веками и тысячелетиями длится фундаментальный конфликт между теми, кто, как и Локк, считают человека чистым листом, на котором внешние воздействия пишут текст (сейчас скажут — «программируют» мышление и поведение), и теми, кто считает иначе (их ярчайшего представителя я назову и обсужу чуть позже).
Этот конфликт начался задолго до откровений Локка и полемики, которую вызвали эти откровения. Он начался еще в Древней Греции, он затем дооформился в полемике Локка и его противников, и он длится по сию пору.
Всё на свете: судьбы человечества, возможность дать отпор фундаментальному нацизму, возможность коммунизма и многое другое — по большому счету определяется данным тысячелетним спором. Ни одна из крупнейших проблем современности и будущего человечества не может быть понята верно без знания о том, с кем и за что боролись силы, принципиально отличающиеся по взгляду на Человека.
Одна из сил, участвующих в подобной никогда не прекращавшейся борьбе, — это рационализм. Совершенно ошибочно утверждение, согласно которому рационализм всё сводит к сухим логическим выкладкам. На самом деле рационалистам свойственно преклонение перед разумом, который для них является не чистым листом, не базой данных, где хранятся и даже обрабатываются данные, полученные органами чувств, а чем-то гораздо большим.
Своим родоначальником рационалисты считают античного философа Сократа (рис. 18), родившегося в 469 году до нашей эры и умершего в 399 году до нашей эры.

Другие великие рационалисты — это Рене Декарт (1596–1650), Бенедикт Спиноза (1632–1667), Готфрид Лейбниц (1646–1716), Иммануил Кант (1724–1804), Георг Гегель (1770–1831).
Локк — это один из тех, кто вел наиболее последовательную, тонкую и эффективную борьбу с рационализмом вообще и прежде всего с Рене Декартом (рис. 19), восстановившим значение рационализма, приняв эстафету у великого Сократа.

Главный противник рационализма не иррационализм, хотя и он весьма и весьма влиятелен в современном мире. И всё же главный противник рационализма — это так называемый сенсуализм (от латинского слова sensus — восприятие, чувство, ощущение).
Полемизируя с Рене Декартом, Джон Локк, возглавивший антирационалистическое сенсуалистское направление, заявил, что «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувстве».
Тем самым Локк, по сути, принял эстафету у таких античных противников Сократа, как софисты, лидером которых был древнегреческий философ Протагор (485 год до нашей эры — 410 год до нашей эры). Знаменитое высказывание Протагора «Человек есть мера всех вещей» только запутывает любого, кто хочет разобраться в позициях данного античного философа. Для этого достаточно просто прочитать до конца то высказывание, в котором говорится об этой самой мере всех вещей: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют».

XXXII
Поскольку никаких текстов самого Протагора не осталось, мы можем ориентироваться только на одного из величайших древнегреческих философов — Платона (427 (428) — 347 (348) год до нашей эры). (рис. 20)
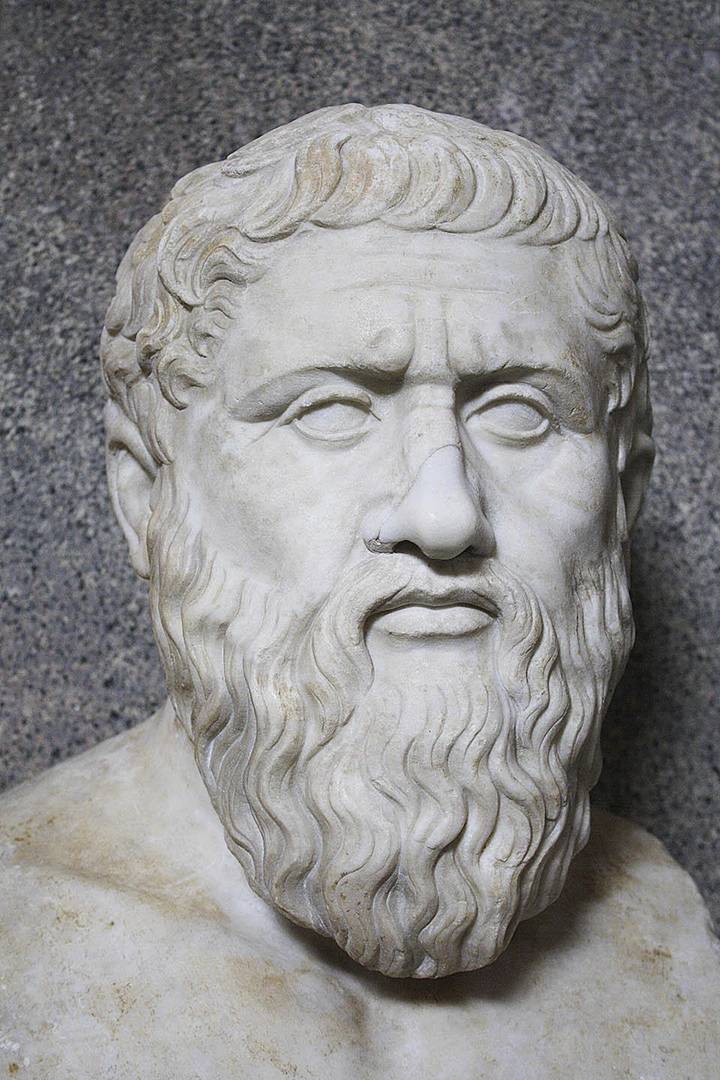
Платон — ученик Сократа и учитель Аристотеля. Он первый древнегреческий философ, чьи сочинения дошли до нас не в отрывках, цитируемых другими. Платон поведал нам что-то о Протагоре, чьи сочинения до нас не дошли. Я процитирую кусок из произведения Платона «Теэтет». Это произведение названо по имени персонажа, с которым полемизирует сам Сократ.
Сократ предлагает Теэтету попытаться разобраться с тем, что есть знание. Он говорит ему при этом: «А что-де ты не способен, этого никогда не говори. Ведь если угодно будет богу и если ты сам соберешься с духом, то окажешься способен».
Это, кстати, касается и собравшихся в этом зале: никогда не говори, что ты не способен, — соберись с духом и окажешься способен.
Теэтет, выполняя рекомендацию Сократа, начинает полемизировать с великим философом, предъявляя ему свое представление о знании.
Сократ: «Итак, ты говоришь, что знание есть ощущение?»
Обращаю внимание собравшихся на то, что тезис о том, что знание тождественно ощущению, как раз и представляет собой квинтэссенцию сенсуализма, непримиримо сражающегося с рационализмом с древнейших времен и по сию пору. Теэтет утвердительно отвечает на вопрос Сократа: мол, и впрямь, знание — это ощущение.
«Сократ. Я подозреваю, что ты нашел неплохое толкование знания. Однако так же толковал это и Протагор. Другим, правда, путем он нашел то же самое. Ведь у него где-то сказано: «Мера всех вещей — человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Ты ведь это читал когда-нибудь?
Теэтет. Читал, и не один раз.
Сократ. Так вот, он говорит тем самым, что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя. Ведь человек — это ты или я, не так ли?
Теэтет. Да, он толкует это так.
Сократ. А мудрому мужу, разумеется, не подобает болтать вздор. Так что последуем за ним. Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, кто-то — нет? И кто-то не слишком, а кто-то — сильно?
Теэтет. Еще как!
Сократ. Так скажем ли мы, что ветер сам по себе холодный или нет, или поверим Протагору, что для мерзнущего он холодный, а для не мерзнущего — нет?
Теэтет. Приходится поверить.
Сократ. Ведь это каждому так кажется?
Теэтет. Да.
Сократ. А «кажется» — это и значит ощущать?
Теэтет. Именно так.
Сократ. Стало быть, то, что кажется, и ощущение — одно и то же, во всяком случае когда дело касается тепла и тому подобного. Каким каждый человек ощущает нечто, таким, скорее всего, оно и будет для каждого.
Теэтет. Видимо, так.
Сократ. Выходит, ощущение — это всегда ощущение бытия, и как знание оно непогрешимо.
Теэтет. Очевидно.
Сократ. Тогда, клянусь Харитами, Протагор был премудр и эти загадочные слова бросил нам, всякому сброду, ученикам же своим втайне рассказал истину.
Теэтет. Как тебя понять, Сократ?»
В ответ Сократ подробно обсуждает проблемы покоя и становления, к которым нам еще придется вернуться. Обсудив их, он возвращается к ощущению как единственно непогрешимому знанию, то есть к сенсуализму.
«Сократ. Тогда не оставим без внимания и остального. Остались же у нас сновидения и болезни, особенно же помешательства, которые обычно истолковывают как расстройство зрения, слуха или какого-нибудь другого ощущения. Ты ведь знаешь, что во всех этих случаях недавно разобранное утверждение (то есть то самое, согласно которому ощущение непогрешимо — С. К.) как раз опровергается, так как в высшей степени ложны наши ощущения, рожденные при этом, и то, что каждому кажется каким-то, далеко не таково на самом деле, но совсем напротив, из того, что кажется, ничто не существует.
Теэтет. Это сущая правда, Сократ.
Сократ. Итак, мой мальчик, какое же еще остается у кого-либо основание полагать, что знание есть ощущение и что каждая вещь для каждого такова, какой она ему кажется?»
Далее Сократ начинает обсуждать с Теэтетом проблему соотношения между больным и здоровым Сократом как обладателями разных ощущений. Сократ приводит Теэтету пример с вином, которое для него, если он здоров, приятно и сладко, а если он нездоров — неприятно и горько.
«Сократ. Стало быть, если действующее на меня существует для меня, а не для кого-то другого, то и ощущаю его только я, а другой — нет?
Теэтет. А как же иначе?
Сократ. Следовательно, мое ощущение истинно для меня, поскольку всегда принадлежит моей сущности, и, согласно Протагору, я судья всем существующим для меня вещам, что они существуют, и несуществующим, что они не существуют».
Теэтет. По-видимому».
Далее Сократ поздравляет Теэтета с тем, что он родил некое интеллектуальное детище, что это детище надо обнести вокруг очага, но что Теэтет не обидится, если у него это детище отберут. Он иронизирует по поводу того, что Теэтет оказался в хорошей компании вместе с мудрейшим из мудрейших мудрецов Протагором, а также теми, кого он называет «Гомером, Гераклитом и всем этим племенем» (высшая степень оскорбительности).
Далее Сократ спрашивает другого своего собеседника, Феодора, который назван геометром (должен оговорить, что в цитируемом мной платоновском диалоге «Теэтет» у Сократа несколько собеседников: Теэтет, этот Феодор, Терпсион, Евклид...). Сократ, обращаясь к Феодору, спрашивает: «Знаешь ли, Феодор, чему дивлюсь я в твоем друге Протагоре?»
«Феодор. Чему?
Сократ. Те его слова, что каким каждому что-то представляется, таково оно и есть, мне очень нравятся. (Ощутите изящество и масштаб издевки — С. К.) А вот началу этого изречения я удивляюсь: почему бы ему не сказать в начале своей «Истины», что мера всех вещей — свинья или кинокефал (собакоголовое существо — С. К.), или что-нибудь еще более нелепое среди того, что имеет ощущения, чтобы тем пышнее и высокомернее было начало речи, доказывающей, что мы-то ему чуть ли не как богу дивимся за его мудрость, а он по разуму своему ничуть не выше головастика, не то что кого-либо из людей. Ты не согласен, Феодор? Ведь если для каждого истинно то, что он представляет себе на основании своего ощущения, если ни один человек не может лучше судить о состоянии другого, чем он сам, а другой не властен рассматривать, правильны или ложны мнения первого, но — что мы уже повторяли не один раз — если каждый будет иметь мнение только сам о себе и всякое такое мнение будет правильным и истинным, то с какой же стати, друг мой, Протагор оказывается таким мудрецом, что даже считает себя вправе учить других за большую плату, мы же оказываемся невеждами, которым следует у него учиться, — если каждый из нас есть мера своей мудрости? Как тут не сказать, что этими словами Протагор заискивает перед народом. Я не говорю уже о себе и своем повивальном искусстве — на нашу долю пришлось достаточно насмешек, — но я имею в виду вообще всякие занятия диалектикой. Дело в том, что рассматривать и пытаться взаимно опровергать наши впечатления и мнения — всё это пустой и громкий вздор, коль скоро каждое из них — правильное и если истинна «Истина» Протагора, а не скрывает в своей глубинной сути некоей насмешки».
XXXIII
Я не имею возможности рассматривать данный диалог с еще большей подробностью, поэтому останавливаюсь на этом сократовском, а на самом деле — платоновском выпаде против Протагора и софистов. Поэтому я предложу собравшимся еще раз задуматься над тем, что так изящно и глубоко обсуждали люди две с половиной тысячи лет назад. И сделав это предложение, сообщу какие-то минимальные сведения по поводу софистов, к коим относится обсуждаемый Сократом Протагор.
Софисты — это древнегреческие платные преподаватели красноречия и одновременно представители некоего философского направления, распространенного в Греции во второй половине V и первой половине IV веков до нашей эры.
Софистами называли и древнекитайских мудрецов.
Позднеантичный историк философии Диоген Лаэртский, обсуждая того же Протагора, которого обсуждал Сократ, утверждал, что Протагор «первый заявил, что о каждом предмете можно сказать двояко и противоположным образом».
К этому утверждению Диоген Лаэртский добавлял следующее: «О мысли он [Протагор] не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет свое начало от него».
Софисты первыми стали говорить о том, что всё условно, что моральные принципы произвольны, что всё в мире относительно. Они довели до крайности принцип индивидуализма и неограниченной свободы. Их современники прекрасно понимали, что такое доведение до крайности этих принципов означает, по сути, крушение культуры. Ну так понадобилось две с половиной тысячи лет, чтобы такой неософистический подход уже почти не вызывал сопротивления.
XXXIV
То, что Локк и все другие сенсуалисты — это продолжатели дела софистов, не вызывает больших сомнений. Налицо действительно не столетний, а тысячелетний спор между двумя школами, мировоззрениями, течениями мысли, непримиримо противостоящими друг другу.
Если в постантичном мире знаменем, то есть ключевым выразителем некоего квазипротагоровского, квазисофистического направления стал Джон Локк, то в этом же постантичном мире знаменем противоположного направления стал Готфрид Вильгельм Лейбниц. (рис. 21)

Лейбниц — это почти единственный ренессансный по сути своей человек в постренессансную эпоху. Он чуть моложе Локка (родился в 1646, умер в 1716 году).
В математике заслуга Лейбница состоит в том, что он создал математический анализ независимо от Ньютона, заложил основу математической логики, создал комбинаторику как науку, описал двоичную систему счисления. Не меньше заслуги Лейбница в механике, где он сформулировал закон сохранения энергии, в психологии, где он развил учение о бессознательной психической жизни, и в философии.
Лейбниц — автор современной формулировки закона тождества, он ввел понятие модели, он является фактическим зачинателем всего, что связано с вычислительной техникой, или, точнее, всего, что связано с машинным моделированием функций человеческого мозга.
Он сформулировал один из основных принципов физики — принцип наименьшего действия. Ему принадлежит ряд специальных открытий в физике. Ему принадлежат открытия в языкознании, в эволюции Земли. Все его открытия перечислить невозможно, поскольку помимо всего, сказанного выше, он делал открытия в юриспруденции, дипломатии, истории.
Известно о достаточно глубоком взаимодействии Лейбница с Петром Великим, который познакомился с Лейбницем во время своего путешествия в Европу, с негодованием отреагировал на то, что Лейбниц восхвалял победы Карла XII и восхищался тем, что этот шведский король, победив Петра I, воздвигнет шведскую границу от Москвы до Амура.
Однако Петр I не дал волю своей обидчивости и выстроил с Лейбницем прочные отношения, поддержав его идею о создании Академии наук в Петербурге, возведя Лейбница в высокий чин тайного советника юстиции и одарив его огромной по тем временам пенсией в 2000 гульденов.
Биографы подробно описывают раннюю гениальность Лейбница, самостоятельное освоение мальчиком античной культуры и литературы.
Многие философы и историки науки утверждают, что Лейбниц был для своей эпохи тем, чем Платон, Архимед и Аристотель вместе взятые.
Так называемый отец кибернетики Норберт Винер сказал, что если бы ему предложили выбрать святого покровителя кибернетики, то он выбрал бы Лейбница.
Лейбниц считается одним из самых выдающихся гениев за всю историю человечества, причем это тот редкий случай, когда детская гениальность сохранилась на всю жизнь.
Лейбниц так характеризовал свой интеллектуальный жизненный стиль: «Две вещи принесли мне огромную пользу, хотя обычно они приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучкой. Во-вторых, во всякой науке, как только я приобретал о ней первые понятия, я всегда искал нового, часто просто потому, что не успел достаточно усвоить обыкновенное».
Лейбниц увлекался китайским конфуцианством, он пытался объединить современную ему науку и философию с метафизикой. Иногда говорят даже об особой метафизике Лейбница, основанной на глубочайшем синтезе различных отраслей человеческого знания.
Необходимо подчеркнуть, что Лейбниц не вступил в беспощадный конфликт с Локком, а напротив, пытался примирить позиции Декарта и Локка, найти компромисс между рационализмом Декарта (или, если идти к истокам, — Сократа) и сенсуализмом Локка (или, если идти к истокам, — Протагора).
Но главное и для нас, и для человечества в целом, как ни странно, не в заслугах Лейбница по части развития тех или иных наук. Главное — в довольно простой реакции Лейбница на одно простое заявление Локка.
Локк был общепризнанным главой школы сенсуализма и эмпиризма. Главный тезис этой школы гласил: «Нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в чувствах».
По латыни это звучит так: «Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu».
Лейбниц выдвинул блестящий тезис, фактически оформивший на века противоположную позицию. Он звучит так: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувствах, кроме самого разума» — «Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu, excipe: nisi ipse intellectus».
Хотелось бы, чтобы эти два тезиса все собравшиеся здесь выучили наизусть и по-русски, и по-латыни, поскольку речь идет не об абстрактных умствованиях, а о судьбе человечества.
XXXV
Я позволю себе развернуто процитировать очень известного американского психолога Гордона Олпорта (рис. 22).

Он родился в 1897 и умер в 1967 году, то есть он является не только одним из основных оппонентов Фрейда, но и современником таких выдающихся психологов, как Фромм, Выготский, Гальперин, Леонтьев.
В своей работе «Становление: основные положения психологии личности», посвященной Питириму Сорокину, Олпорт пишет:
«Джон Локк, как все мы помним (уважаю оптимистов — «все мы помним» — С. К.), полагал, что сознание индивидуума в момент рождения — это tabula rasa» («чистый лист»).
Формулируя актуальное содержание данного тезиса Локка, Олпорт констатирует, что этот тезис равносилен утверждению о том, что «интеллект сам по себе есть пассивная субстанция (запомним это — «пассивная субстанция», оно нам пригодится — С. К.), приобретающая содержание и структуру только через воздействие ощущений и наложение ассоциаций».
Тут каждое слово важно:
А) интеллект — это субстанция приобретающая, а не имеющая содержание;
Б) интеллект — это субстанция приобретающая, а значит, не имеющая не только своего автономного содержания, но и своей автономной структуры;
В) интеллект получает и содержание, и структуру только (тут важно это «только») через воздействие ощущений и наложение ассоциаций.
Далее Олпорт дает очень ясный и важный образ того, на что это похоже.
Не хочу, чтобы собравшиеся считали, что Олпорт — оракул, а его мнение — это истина в последней инстанции. Я часто цитирую людей, с которыми во многом не согласен, но которые, во-первых, суперкомпетентны, а, во-вторых, порой говорят нечто крайне важное. Олпорт — завзятый американский демократ, он — скорее оформитель чужих идей, чем гениальный первооткрыватель. Но он умеет четко формулировать определенные важнейшие представления, и эти его формулировки достаточно образны, что очень важно.
Вот та формулировка Олпорта, которая в данном случае важна. Олпорт сравнивает интеллект в локковском понимании (пассивная субстанция, приобретающая содержание и структуру только через воздействие ощущений и наложение ассоциаций) со сладким тестом, которое преобразуется в пряник с четким рисунком благодаря печатной доске кондитера. Олпорт пишет:
«Локк утверждал, что в интеллекте не может быть ничего, чего сначала не было бы в ощущении (Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius in sensu).
Эту формулировку Лейбниц язвительно дополнил: ничего — за исключением самого интеллекта (excipe: nisi ipse intellectus)».
Воспроизведя эту полемику и предложив оригинальный образ локковского интеллекта, Олпорт далее интерпретирует конфликт Локка и Лейбница.
Согласно Локку, организм реагирует, когда его стимулируют.
Согласно Лейбницу, он обладает самостоятельной активностью.
В сущности, всё, что определяет будущее человечества, вполне сводится к этой, казалось бы, элементарной разнице в подходах. Или организм, а также личность, обладают чем-то, именуемым самостоятельной активностью, или организм и личность этим не обладают.
В зависимости от того, обладают или не обладают, история человечества будет разворачиваться по-разному, будут задействованы разные концепции власти, разные социальные конструкции. Потому что если личность самостоятельной активностью не обладает, ну так и всё — лепи из нее всё, что хочется. Не полагайся на ее самостоятельную активность. А значит, обучение осуществляем так-то, власть осуществляем так-то, социум конструируем так-то.
Олпорт продолжает развивать свою мысль: «Локк был англичанином, и, возможно, поэтому его образ мышления, развитый Юмом и другими последователями, непоколебимо утвердился в английской и американской психологии. Точка зрения Лейбница, развитая Кантом, превалировала в немецкой психологии и в целом в континентальной Европе».
Далее Олпорт перечисляет психологические направления, связанные с локковской традицией. Это, по мнению данного очень компетентного психолога, «ассоцианизм всех типов (энвиронментализм [движение и научное направление, считающее, что среда имеет решающее значение, а находящийся в ней субъект ей подчиняется — С. К.], бихевиоризм, теория стимула и реакции, фамильярно сокращаемое как S-R) и все другие «стимульно» ориентированные направления психологии».
Тут очень важно словосочетание «стимульно ориентированные». Гайдар и Ельцин вас стимулируют, вы ориентируетесь.
Олпорт перечисляет эти самые «стимульно» ориентированные направления в психологии и не только в психологии. Это, по его мнению, «зоопсихология, генетическая психология, позитивизм, операционализм и математическое моделирование — короче, большая часть того, что сегодня пестуется в наших лабораториях как истинно «научная» психология».
Олпорт настаивает:
«Эти движения, которые на первый взгляд могут показаться различными, имеют общий фундамент — локковский эмпиризм».
По авторитетному суждению Олпорта, представители данного широкого направления, про которое он говорит, что оно пестуется в американских лабораториях как истинно «научная» психология, то есть психология, формирующая правильное представление о человеке (для США и имперского глобализма в целом), утверждают, что «внешнее и видимое более фундаментально, чем внутреннее и невидимое».
Поскольку разум от природы есть tabula rasa, важно то, что случается с организмом, важны внешние воздействия, а не организм сам по себе.
Далее Олпорт говорит о том, что его беспокоит больше всего — да, честно говоря, и меня тоже: тут мы сходимся.
«Даже мотивацию, которая кажется самым центральным и спонтанным феноменом личности, [сторонники Локка] рассматривают как некое влечение, возникающее в ответ на периферические изменения, приводящие к избытку или недостатку стимуляции в полостях тела. Чтобы объяснить мотивы более сложным образом, [сторонники Локка говорят], что поведение, побуждаемое влечениями, в результате выработки условных связей сменяется поведением, побуждаемым раздражителями. Причина же тем не менее остается внешней по отношению к организму».
Поясняю, что именно утверждает Олпорт.
Он утверждает, что даже в основу самой ее величества человеческой мотивации сторонники Локка кладут влечения. Влечения — это энергетические подталкивания к чему-то такому, что необходимо сделать для того, чтобы снять напряженность, порожденную голодом, жаждой, дефицитом кислорода, дефицитом воздуха и близким по фундаментальности ко всему этому необходимостью продолжения рода (пресловутый секс).
Иногда к этому добавляется агрессия, цель которой — разрушение. Тогда говорится о влечении к жизни и влечении к смерти.
Что же касается перехода от влечения к раздражителю, то если вас кормить и звонить в колокольчик (знаменитый пример академика Павлова), то вы на колокольчик, то есть на раздражитель, будете реагировать как на влечение к самосохранению через питание, оно же — голод.
Значит, есть только напряженности, которые нужно снять. И они в простейших случаях вызваны влечениями (к самосохранению, агрессии), а в самых сложных — прочно связанными ассоциативным способом с этими влечениями раздражителями (например, колокольчиком, связанным с голодом, который надо удовлетворить во имя самосохранения).
Олпорт пишет:
«Принципы обусловливания (то есть условных рефлексов, обеспечивающих возможность заменить простое влечение тем, что предъявляют на его месте в качестве чего-то якобы сложного — С. К.) были открыты Павловым в России, но рвение, с которым их подхватили и развили американские психологи, является показателем того, что они созвучны преобладающей у нас (то есть в США — С.К.) локковской традиции. Обучение рассматривается как замещение одного стимула другим или одной реакции — другой. Зона между стимулом и реакцией (в эту зону Лейбниц «помещал» интеллект) считается маловажной или незначимой».
Понятно, что в зоне между стимулом и реакцией находится собственная активность, теснейшим образом связанная для Лейбница с интеллектом.
Понятно также, что если всё, что находится в этой зоне, является малозначимым, то не только интеллект, но и собственно активность — это то, чем можно пренебречь.
Олпорт обращает внимание на еще одно свойство эмпиризма (и сенсуализма) Локка:
«Эмпиризму Локка присущ еще один постулат: малое и молекулярное («простые идеи») более фундаментально, чем большое и молярное («сложные идеи»). Сегодня личность рассматривается как взаимосвязь рефлексов или свойств. <...> Верхним уровням иерархии [свойств] уделяется мало внимания. Внимание большинства психологов, работающих в области обучения и развития, поглощено именно уровнем элементарных навыков».
Что означает это заявление высокостатусного американского психолога, обласканного элитой США, имевшего все высшие регалии?
Оно означает, что благодаря Локку и триумфальному шествию по западному миру его школы, вся сфера человеческого обучения и человеческого развития (вдумаемся, даже развития!) находится под контролем тех, кто сводит это обучение и развитие к элементарным навыкам. Ну так они и сводят! Не надо удивляться тому, что делает наше Министерство образования. Оно что-то копирует и понятно, что именно — локковский подход к образованию и развитию как к чему-то, накрепко связанному с уровнем элементарных навыков.
Бороться надо не со следствиями, а с тем, что их порождает. Если их порождает школа Локка, то это значит, что вначале надо выявить эту связь школы Локка с образованием, а потом опереться в моделировании и осуществлении образования (а также развития) на альтернативную школу с альтернативным представлением о человеке.
Олпорт не останавливается на таких рискованных констатациях и порожденных ими выводах. Он пишет:
«Преобладание внимания к молекулярным единицам (то есть к простейшему, малому — С. К.) приводит к уверенности в эквивалентности видов. Считается, что любое базовое человеческое свойство может быть без существенных потерь изучено на низших видах. Ведь человек — животное. <...>
Еще одно положение, присущее эмпиризму Локка: более фундаментально то, что появилось раньше в ходе развития. Важны ранние отпечатки на воске разума. <...>
Этот тип генетизма прочно удерживает власть в американской психологии (я говорю о генетизме не как о врожденной или конституциональной предрасположенности, а как о раннем научении). Придерживаясь доктрины tabula rasa, американский генетизм [с его приоритетом раннего научения] подчеркивает важность научения и обусловливания в раннем детстве (то есть тогда, когда человеческое еще не сформировано до конца — С. К.)».
Как утверждает один из столпов американской респектабельной психологии, эта точка зрения «создает значительные трудности для теории развития и изменения личности».
Олпорт утверждает также, что локковская традиция считает методом только то, что основано на таких регистрациях, которые близки к регистрации светового или звукового импульса. А значит, богатство человеческой жизни в пределах локковской традиции обнуляется — ведь его нельзя замерить так, как замеряют световые или звуковые импульсы с помощью какого-то датчика.
Называя такое ответвление локковской традиции позитивизмом, Олпорт утверждает, что позитивистские пристрастия к точным замерам порождены не только стремлением позитивистских психологов подражать представителям точных наук.
Он выделяет три предпочтения, ярко представленные в рамках локковского позитивизма.
Первое предпочтение — это предпочтение, согласно которому всё внешнее важнее всего внутреннего.
Второе предпочтение — это предпочтение, согласно которому отдельные элементы важнее целостной структуры.
Третье предпочтение — это предпочтение, согласно которому идея «генетизма» и пассивного (реактивного) организма важнее, вернее, правдивее, эффективнее идеи организма спонтанного и активного.
Обнаружение американским психологом, далеким от диссидентства, этих предпочтений, и особенно третьего, для нас является крайне важным. Потому что достаточно обнаружения даже этих трех предпочтений, чтобы понять, что день грядущий нам готовит, коль скоро он станет днем американского формального и содержательного господства над миром.
Сторонники Локка предпочтут реактивный пассивный тип личности — типу личности спонтанному и активному.
В этой связи я еще раз вынужден объяснить, почему мне так важен Олпорт. Потому что он американец, и американец высокостатусный, респектабельный, осторожный, боящийся перейти в разряд диссидентов, что в Америке делается очень просто.
Поэтому вновь слово Олпорту:
«Лейбницевская традиция [противореча традиции локковской], наоборот, утверждает, что человек — это не набор действий и не просто локус (место) действий, [для представителей лейбницевской традиции] человек — это источник действия. И сама активность понимается [представителями лейбницевской традиции] не как возбуждение, возникающее в ответ на внутреннюю или внешнюю стимуляцию. Она [для представителей лейбницевской традиции] целенаправленна. [А еще представители лейбницевской традиции считают, в отличие от представителей традиции локковской, что для того] чтобы понять, чем является человек, всегда необходимо обратиться к тому, чем он может стать в будущем, ибо на каждом его актуальном состоянии лежит печать будущих возможностей».
Понятно, что здесь утверждается?
Что если человек — это воск, на котором делаются отпечатки, то самые мощные отпечатки делаются на наиболее пластичном воске раннего детства. И если есть только отпечатки, то мощнее, а значит, и влиятельнее всего отпечатки раннего детства.
А если нет этого воска, то есть, точнее, внутри него есть еще и нечто упругое (потому что воск, конечно же, есть), то важнее всего это упругое, а оно прорастает со временем... И источник этого прорастания — спонтанная активность личности, а не ее пассивная реактивность. Никто в принципе не отрицает особого значения раннего детства. Весь вопрос в том, сводится всё к его значению или не сводится. Если есть центр спонтанной активности, то он и есть нечто несводимое к раннему детству. Потому что отпечатки сильнее всего в раннем детстве, а центр спонтанной активности укрепляется вместе с движением в будущее. И на определенной стадии этого укрепления, он, если он существует, преодолевает любые отпечатки раннего детства, любые так называемые роковые травмы раннего детства. Он всё преодолевает, если он есть и если есть развитие как его всё большее и большее укрепление.
XXXVI
Исследуя традицию такого лейбницевского отношения к личности и судьбе, Олпорт называет источниками этой традиции, во-первых, «энтелехию» Аристотеля, во-вторых, «интенцию» Фомы Аквинского.
Аристотель — это величайший из древнегреческих философов, ученик Платона (родился в 384 году до нашей эры, умер в 322 году до нашей эры) (рис. 23).


Тот же Лейбниц считал, что всё, созданное после Аристотеля, образно говоря, в подметки не годится всему, что было создано при жизни этого замечательного философа, учителя Александра Македонского.
Но нас интересует не Аристотель как таковой, а его энтелехия. В философии Аристотеля энтелехия — это внутренняя сила, заключающая в себе внутреннюю цель и окончательный результат.
Примером энтелехии, который чаще всего приводят, является та сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.
Энтелехия, по Аристотелю, во многом тождественна энергии и представляет собой реализацию заложенных способностей и возможностей.
Исходя из этого, Аристотель утверждал, что материя — есть потенция, а форма — это энтелехия. Аристотель утверждал, что душа или жизнь (то есть то, в силу чего человеческое существо живо) — это первая энтелехия природного тела, способного к жизни. Душа есть сила, действующая посредством тела, а тело — орудие души.
Теперь о Фоме Аквинском. Это один из самых великих западных средневековых религиозных философов. Он родился в 1225 году и умер в 1274 году (рис. 24).

Это итальянский учитель церкви, основатель учения, именуемого томизмом. Это средневековый философ, который сумел связать христианское вероучение с философией Аристотеля. Согласно Фоме Аквинскому, все психические процессы представляют собой восходящую лестницу. Естественно, что средневековый религиозный философ считал, что эта лестница восходит к богу, но то, что эта лестница психических процессов восходит, важнее того, куда она восходит. Потому что для школы Локка она никуда не восходит, да и не является, по большому счету, никакой лестницей с относительно самостоятельными ступенями, высшие из которых важнее низших.
Для того чтобы имела место та лестница психических процессов, которая в локковской традиции отсутствует, нужна, согласно Фоме Аквинскому, интенция, она же — направленность сознания на объект. Именно интенция для Фомы Аквинского связует между собой психические структуры различного уровня и подымает душу от простейших влечений к познанию высшего смысла.
Интенция противопоставляется влечению, потому что она представляет собой стремление к осуществлению чего-то задуманного, то есть связана с замыслом. Может быть речевая интенция, то есть намерение осуществить речевой акт, коммуникативная интенция. У Фомы Аквинского интенция и выбор — это два элемента свободного и нравственного акта воли, притом что направление этому акту задает разум.
Интенция — это вкладывание души в то, что ты делаешь.
В иудаизме считается, что без интенции, она же — «кавана», то есть направленности, вкладывания души, молитва превращается в механический набор слов. Иначе говоря (цитирую иудейские авторитеты), молитва без «каваны» — это тело без дыхания.
Вкладывание души в действие — вот что такое интенция. И это справедливо отнюдь не только для иудаизма.
Так же понимают интенцию в исламе, где ее называют «ният».
Что касается христианства, то там вкладывание души в молитву, в осуществляемое благое дело, как раз и называют интенцией.
Протягивая линию традиции от Аристотеля, а значит, и от Сократа с Платоном, к Фоме Аквинскому, Олпорт предлагает в качестве следующей вехи на этом пути учение одного из главных представителей философии Нового времени — великого нидерландского философа Бенедикта Баруха Спинозы (родился в 1632 году, умер в 1677 году). (рис. 25)

О конатусе, то есть усилии, импульсе, намерении, склонности, тенденции, попытке, стремлении, помимо Спинозы говорили те же Декарт и Лейбниц, а также многие другие. Речь идет о врожденной склонности к самосовершенствованию.
Следующей вехой на данном пути является для Олпорта система воззрений австрийского философа Франца Брентано (родился в 1838 году, умер в 1917 году). Именно Брентано ввел понятие интенциональности в современную философию. (рис. 26)
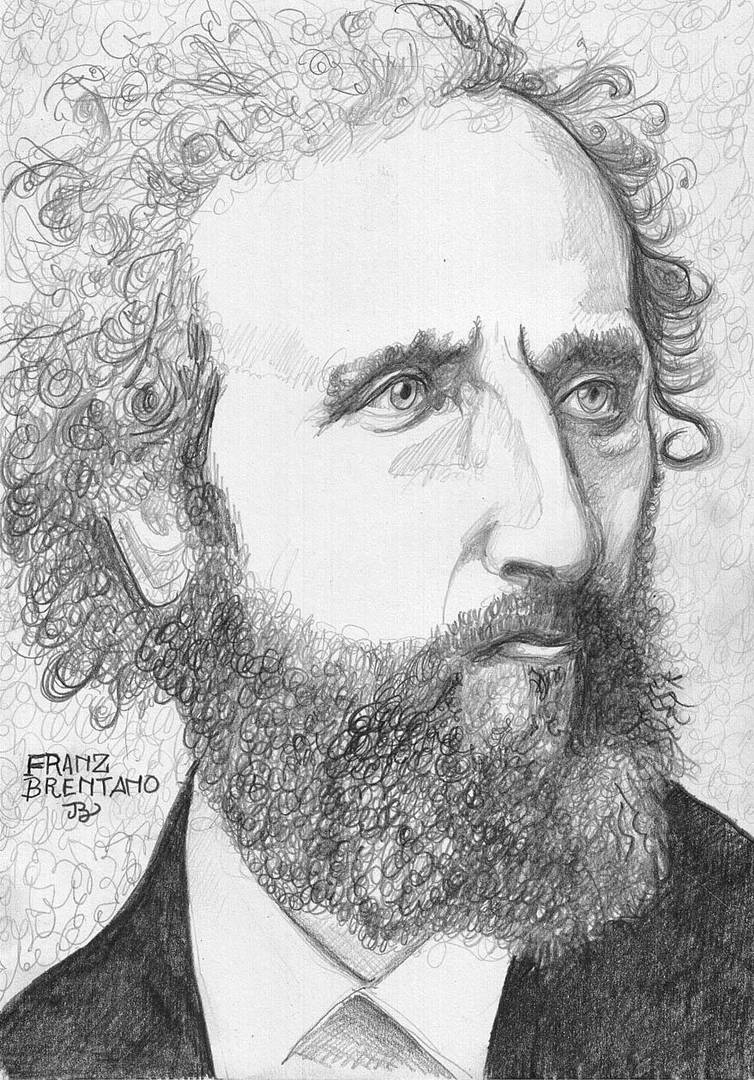
Брентано утверждал, что «всякий психический феномен характеризуется посредством того, что средневековые схоласты называли интенциональным»...
Объясняя, что такое для него интенциональность, Брентано говорит, что интенциональность (то есть направленность) чего угодно: представления, суждения, любви, ненависти — заключается в том, что «в представлении нечто представляется, в суждении нечто утверждается или отрицается, в любви любится, в ненависти ненавидится».
Обсуждая вклад Франца Брентано, Олпорт пишет: «Франц Брентано утверждал, что в каждый момент времени человеческий разум активен и целенаправлен — он непрерывно занят суждениями, сравнениями, пониманием, любовью, желанием, избеганием. Для Брентано моделью разума служило действительное причастие (active participle)».
Напоминаю, что есть причастия действительные и страдательные. Причем действительное — это, например, ведущий, а страдательное — ведомый. Действительное — движущий, страдательное — движимый.
Олпорт настаивает на том, что лейбницевская традиция, идущая от энтелехии Аристотеля к Фоме Аквинскому, от него — к Спинозе, от Спинозы — к Лейбницу, от Лейбница — к Канту, от Канта — к Брентано, а от Брентано — к Гуссерлю, Шеллеру, гештальт-психологии, Вунду, Герберту, фон Эренфельсу, когнитивным психологам — крайне авторитетна и ничуть не менее представительна, нежели традиция локковская.
XXXVII
Я не могу, к сожалению, даже кратко останавливаться на каждом из названных мною здесь постбрентановских представителей этой традиции и каждом направлении. Мне крайне важно показать, что они есть и что о наличии и авторитетности этой традиции говорит американский психолог.
Но еще важнее другое. То, что и энтелехия, и интенция, и вообще любая несводимость человечности к «чистому листу» Локка неизбежно задействует четвертый этаж. И не просто четвертый этаж как вместилище каких-то улавливаний, а четвертый этаж как активный смыслоэнергетический центр.
Для того чтобы моя позиция не выглядела психологическим самостроком, я вновь обращусь к Олпорту, который особо поражался тому, что даже мотивация у сторонников локковской традиции сводится только к снятию напряжения.
Поясню, что такое снятие напряжения. Вы испытываете голод, жажду, удушье, ощущаете во всем этом угрозу вашему гомеостазу, то есть существованию. Как вы это ощущаете? Прошу прощения за определенное упрощение, но в общем-то вы это ощущаете потому, что дефициты неких ресурсов: питания, питья, воздуха — отражаются в функционировании организма. Нарушения тех или иных параметров этого функционирования регистрируются периферийными датчиками, сигналы подаются в центр и, в конечном счете, предстают в виде почти что электрического сигнала, который почти что можно замерить. Говорю «почти что», чтобы все-таки не слишком упрощать, но хочу подчеркнуть, что я не так уж и упрощаю.
Величина этого как бы электрического сигнала и есть напряженность. Понимая, что чем величина больше, тем больше угрожает вашей жизни, вы должны эту напряженность снять. Все ваши операциональные системы устроены так, чтобы добиться этого снятия. Вы наелись — напряженность снизилась, и вам хорошо. И вам тем лучше, чем больше она снизилась. А также вам тем хуже, чем больше она повысилась. Для вашей гомеостатичности, для вашей равновесности, а они ведь обязательно есть, критерием должного состояния является снятие напряжения, а критерием тревожного, опасного состояния, которое надо погасить, является рост напряженности. Соответственно, все ваши удовольствия этого типа — это снятие напряженности. То же самое в сексуальной жизни, которой биологизаторы придают решающее значение, но наличие которой никто не отрицает. Итогом полового акта является снятие напряженности, а побуждением к нему — рост напряженности. То же самое с агрессией.
Некая школа Локка в том виде, в каком она описывается Олпортом, а это очень интересное представление о школе, хотела бы свести всю человеческую мотивацию к снятию напряжений, избеганию боли и дискомфорта, избеганию напряжений, связанных с желаниями, которые надо осуществить.
И совершенно ясно, что в каждом человеке есть его субличность, которая соткана из суммы потребностей в снятии напряженности. Но есть ведь и другая субличность. Когда субличностей много, это, как говорится, не есть хорошо. Но такая субличность должна быть обязательно.
Назовем эту субличность, сотканную из суммы потребностей в снятии напряжений, Дельтой. Дельту можно прибавить к любому имени (Дельта-Таня, Дельта-Люба) или к любой фамилии. У каждого, повторяю, есть своя Дельта, стремящаяся к гомеостазу, не отменяемому в случае, если речь идет о физическом выживании и других простейших элементах существования.
Но сводится ли всё к Дельте и ее производным в виде более усложненных удовольствий, которые тоже нужно достигать через снятие более усложненных напряжений?
Для сторонников локковской традиции в ее олпортовском понимании всё сводится к Дельте. И для Фрейда это так, и для очень многих. Удовольствие — это снятие напряжения. Вся мотивация человека есть реализуемое стремление к снятию напряжения.
Так что же, в человеке нет ничего, кроме Дельты? Для последователей Локка — да.
А для других?
Олпорт пишет: «Во многих отношениях эта [локковская] модель человеческой мотивации неоспорима. Ничто не может быть более очевидным, чем тот факт, что наши влечения (нужда в кислороде, пище, сексе) представляют собой настоятельную потребность в снижении напряжения. Но чем больше мы размышляем о сути дела, тем сильнее начинаем подозревать, что занимаемся только одной половиной проблемы. <...> Нам известны надежные способы снятия напряжения, но мы также отбрасываем старые привычки и идем на риск в поисках новых линий поведения».
Далее Олпорт формулирует свою очень важную для нас, хотя и достаточно очевидную мысль.
Развитие, говорит он, осуществляется только через риск и изменение. Но риск и изменения чреваты новыми и часто неизбежными напряжениями, избегать которые мы считаем ниже своего достоинства...
Олпорт признает, что многие психологи игнорируют данное очевидное обстоятельство. Он объясняет это тем, что этим психологам «больше нравится простая теория мотивации [основанная на снятии напряжения] <...> Согласно этому подходу... мотивация предполагает одно и только одно присущее организму свойство — предрасположенность действовать (на основе инстинкта или научения) таким образом, чтобы как можно более эффективно снимать напряжение, порождающее дискомфорт. Мотивация рассматривается как состояние напряжения, ведущее нас к поиску равновесия, отдыха, приспособления, удовлетворения или гомеостаза. С этой точки зрения, личность — не более чем наши привычные способы редукции напряжения. Конечно, эта формулировка полностью соответствует исходной предпосылке [локковского] эмпиризма относительно того, что человек является по природе пассивным существом, способным только получать впечатления от внешних раздражителей и отвечать на них».
Далее Олпорт еще больше развивает альтернативную, важную для нас точку зрения, согласно которой субличность Дельта — это далеко не вся наша личность. Олпорт настаивает на том, что сторонники антилокковских, то есть лейбницевских взглядов «утверждают, что формула [снятия напряжений], будучи применимой к разрозненным и сиюминутным приспособлениям, терпит неудачу при попытке понять природу собственных стремлений. Они [лейбницевцы] указывают, что для собственных стремлений характерно сопротивление равновесию (выделено мною — С.К.): напряжение скорее поддерживается, чем снижается».
Сформулировав это важнейшее для нас общее положение, Олпорт далее приводит столь же важный для нас пример. Разбирая биографию известнейшего полярного исследователя, норвежца Руаля Амундсена (рис. 27) (открывателя Южного полюса, человека, которого называли «Наполеоном полярных стран», родившегося в 1872 году и погибшего при спасении полярников в 1928 году), Олпорт пишет:
«В своей биографии Руаль Амундсен рассказывает, что в пятнадцатилетнем возрасте им овладело страстное желание стать полярным исследователем. Преграды к исполнению этого желания казались непреодолимыми, и велик был соблазн снизить порождаемое ими напряжение. Но собственное стремление было весьма настойчивым. Каждый успех приносил ему радость и одновременно повышал уровень его стремления, поддерживал его главную задачу. Пройдя северо-западным проходом из Атлантического в Тихий океан, он предпринял тяжелую экспедицию, завершившуюся открытием Южного полюса. Затем он годами планировал и вопреки крайним трудностям совершил трансарктический перелет. Свою миссию он выполнял без колебаний до конца жизни (он погиб в Арктике, спасая экспедицию менее талантливого исследователя Нобиле). Он не только непрерывно придерживался одного стиля жизни, но его главная миссия позволила ему выдержать соблазн снизить отдельные напряжения, постоянно порождаемые усталостью, голодом, насмешками и опасностью.
Здесь мы лицом к лицу сталкиваемся с нашей проблемой. [Локкианская] психология... споткнется и потеряет определенность при встрече с аспектами личности (любой личности!), похожими на собственное стремление Амундсена».
Это утверждение Олпорта равносильно в нашей терминологии тому, что кроме субличности Дельта, есть еще и субличность Альфа. И что у таких, как Амундсен, субличность Альфа полностью подчиняет себе субличность Дельта.



Говоря о том, что такие аспекты личности (мы называем это субличностью Альфа), формируются только в условиях риска и амундсеновского отношения к напряжению, Олпорт далее пишет:
«Вернемся к примеру Амундсена. С пятнадцати лет он начал неуклонно двигаться к далекой цели, но это не означает, что всю свою жизнь он пытался снять напряжение, вызванное чтением книг исследователя сэра Джона Франклина. Подобная казуистика пренебрегает тем фактом, что в течение десятилетий он боролся со всеми соблазнами расслабления, получения немедленного удовлетворения... он боролся с побуждениями, вызванными усталостью, унынием, насмешками людей... Он обнаружил, что спасение придет к нему только в том случае, если он будет непрестанно побуждать себя к действию [связанному с наращиванием, а не снятием напряженности]».
XXXVIII
Только теперь я могу собрать воедино все элементы той сложной конструкции или все темы той политико-аналитической симфонии, которая представлена выше.
Потому что только теперь я могу поставить простой вопрос, опираясь на авторитетные слова таких людей, как Олпорт, — людей, не относящихся к разряду экстазников. Олпорт просто фиксирует общеизвестный факт — Амундсен (об этом говорит его личная биография) услышал некий зов и включил свой центр фундаментальной активности. Он же — зов и «жемчужина», о которых я говорил на Зимней школе, он же — расположенное на четвертом этаже устройство, принимающее смыслоэнергетический импульс, о котором я сказал в этом докладе, он же — энтелехия Аристотеля, он же — интенция Фомы Аквинского, он же — конатус Спинозы.
Что включило это начало у Амундсена? Прочтение биографии английского мореплавателя, исследователя Арктики, контр-адмирала, путешественника Джона Франклина (родился в 1786, умер в 1847). Тут дело не в суждениях Олпорта. Амундсен сам пишет об этом в своей биографии.
Итак, Амундсен прочитал биографию Франклина, у него включился некий центр, который я только что называл самыми разными именами. Этот центр начал работать, субличность Дельта, которая у Амундсена существовала, как и у всех людей, оказалась подчинена формирующейся за счет работы этого центра субличности Альфа.


Эта Альфа подчинила себе Дельту навсегда. И Амундсен совершил то, что он совершил. Прожил ту судьбу, которая следовала из его, Амундсена, энтелехии, конатуса и так далее.
Начинаю проводить простую аналогию.
Вместо биографии Джона Франклина собравшиеся в этом зале просмотрели (а потом, возможно, и прочитали) то, что называется «Сутью времени». Этот просмотр и это прочтение вполне корректно уподобить прочтению юным Амундсеном биографии полярного путешественника. Мало ли кто читал эту биографию. Зажегся или пробудился — так можно назвать включение центра фундаментальной активности — Амундсен.
Он, говоря словами Высоцкого, глотал книги, пьянея от строк, ему сосало сладко под ложечкой от того, что было написано, ему кружил голову запах арктической борьбы, слетая со страниц пожелтевшей книги Джона Франклина и со страниц других пожелтевших книг. Он начал постигать тайну арктической борьбы, он, разжав мертвые руки Джона Франклина, принял из этих натруженных рук штурвал арктического корабля. Он завладел еще теплым мечом этого самого Франклина и его арктическими доспехами, решил попробовать на вкус настоящей борьбы. Он прорубал этим мечом путь к Южному полюсу, он испытал, что почем. И он мог сказать себе, умирая, что он в жизни не был ни при чем и не наблюдал борьбу свысока.
То есть он прожил настоящей человеческой жизнью, жизнью Альфа.
Потому что жизнь Дельта — это либо жизнь животного, снимающего простейшие напряжения, либо жизнь суррогата человеческой личности, которая превращает простейшие напряжения в чуть более сложные и срывает за счет их снятия цветы суррогатных жизненных удовольствий.
Человек — это только Альфа. А задача глобального миропорядка — убрать эту Альфа или сохранить ее в нацистском варианте. А большинство превратить либо в зверей, снимающих простейшие напряжения, либо в суррогатных людей, снимающих напряжения чуть более сложные.
За счет чего, в сущности, обрушился Советский Союз и коммунизм?
За счет того, что при так называемом развитом социализме, а, в общем-то, еще раньше, стали создавать советский вариант суррогатного человека, советского мещанина-потребителя, советскую личность, в которой субличность Дельта подчинила субличность Альфа.
Что значит искупить такое преступление, породившее такие последствия?
Это значит действительно обнаружить, выявить, напитать, взрастить в себе Альфу, выдержать бой с Дельтой и подчинить Дельту Альфе однажды и навсегда.
Так вот, если мы говорим об искуплении и понимаем цену красному следу, если мы действительно серьезно относимся к СССР 2.0, к коммунизму 2.0, к Красному проекту, проекту «Сверхмодерн», то чем борьба за всё это отличается от арктических борений Амундсена? Чем знакомство с «Сутью времени» отличается от знакомства Амундсена с биографией Джона Франклина?
Я утверждаю, что нет никаких отличий. Но Амундсен выдержал бой своей Альфы со своей Дельтой и подчинил свою Дельту. После чего стал настоящим Амундсеном. А Ульянов, сделав то же самое, стал Лениным. А Джугашвили, сделав то же самое, стал Сталиным.
Все ли из здесь собравшихся могут сказать, что они до конца подчинили свою Дельту своей Альфе?
Александровское, 11 июля 2016 года
















