О коммунизме и марксизме — 19
Я возвращаюсь к своим статьям о коммунизме и марксизме после долгого перерыва. Этот долгий перерыв заполнен актуальнейшими политическими событиями, смысл которых очень многие вообще отказываются обсуждать. И понятно, почему. Потому что в рамках общепринятых схем и подходов этот смысл обсуждать вообще невозможно. Легче заявить, что смысла нет вообще. Но если мы не видим смысла в действиях определенных политиков, не видим смысла в текущих процессах, то это не значит, что его нет вообще. Это значит, что история запрятала этот смысл куда-то. А значит, в это «куда-то» надо отправиться, чтобы этот смысл обрести.
Вот я и предлагаю читателю отправиться в определенное «куда-то» за этим актуальным донельзя смыслом! Понимаете? Я не предлагаю вам обсуждать интересные академические вопросы, дожидаясь конца света, он же — новая мировая война. Я предлагаю распознать врага человечества, который сооружает конец света. Сразиться с этим врагом. И победить.
Забегая вперед, я назову данным врагом некий «зоологический индивидуализм». И предложу читателю интеллектуальную траекторию, двигаясь по которой можно добраться и до этого врага, которого я пока лишь называю и не более того, и до средств, с помощью которых возможно сражение с таким врагом.
Разговор о Лафарге, который я продолжаю, — лишь один из отрезков данной интеллектуальной траектории.
Предлагаю читателю воспринимать этот разговор именно так. И обещаю уже в этом номере газеты показать, что мое предложение как минимум не бессмысленно.
Итак, Лафарг пишет: «Бродячее племя сходится вокруг огня, чтобы есть и спать; когда эти племена перестают быть кочевниками и начинают строить жилища, то жилища эти являются общим достоянием и общим помещением для всего рода. Очаг, расположенный в середине жилища, становится центром рода, имеющего только одно жилище и один очаг в продолжение всей эпохи коммунистического быта».
Эпоха коммунистического быта... Она же — эпоха оформления человечности в недрах первобытной звериности. Если мы считаем, что эта звериность вновь наступает, то, согласитесь, весьма важно присмотреться к тому, как она преодолевалась «предчеловечностью». И если она преодолевалась на основе некоего коммунизма, именуемого первобытным, то, может быть, где-то там и нужно находить ресурсы обновления коммунистичности как таковой. Ведь где-то их нужно находить, и никто точно не понимает, где именно. Так почему бы не попробовать найти их именно там, не разрывая с марксизмом, а углубляя наше понимание невероятно сложной и много чем обусловленной марксистской философии и методологии.
Первобытный коммунизм... Он же — по Лафаргу — «коммунистический быт», задаваемый единым жилищем, единым очагом и так далее.
Отнюдь не только Лафарг, про которого марксистско-ленинские начетчики могут сказать: «Подумаешь, какой-то Лафарг» обсуждал его, вглядываясь в «это». И прекрасно понимая, что именно в «этом» сокрыты тайны зарождения человечности как таковой, фактически проточеловеческого, но ужасно важного с гуманистической точки зрения «коммунистического быта», задаваемого единым жилищем, единым очагом и так далее.
В своей работе «Государство и революция» Ленин обсуждает интересующий нас вопрос, предлагая начать (и именно начать) с самого распространенного сочинения Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Ленин обсуждает энгельсовский подход к выявлению сущности государства. Энгельс спорит с Гегелем, считавшим, что государство представляет собой «действительность нравственной силы», «образ и действительность разума».
Энгельс противопоставляет Гегелю свой подход, согласно которому «государство есть продукт общества на известной стадии развития», и дает довольно емкое определение того, что же это именно за продукт. Энгельс утверждает, что на определенном этапе развития «общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой», как утверждает Энгельс, «сила, стоящая, по-видимому, над обществом». Тут очень важным является слово «по-видимому». Даже Энгельс, склонный к упрощениям, не берется утверждать, что государство — это сила, стоящая над обществом. Он говорит, что «по-видимому» это так. И продолжает, утверждая, что нужна была некая «сила, которая умеряла бы столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, всё более и более отчуждающая себя от него, есть государство».
Приведя это определение Энгельса, Ленин далее противопоставляет большевистскую точку зрения — точке зрения меньшевиков и эсеров, утверждавших, что государство — это орган примирения классов. Энгельс, как мы убедились, не так уж и далек от этой точки зрения, осуждаемой Лениным. Он говорит о том, что государство препятствует взаимному истреблению (буквально — пожиранию) классов. А что значит препятствовать взаимному истреблению? Это значит, в каком-то смысле, — примирять. А чтобы примирять две общественные группы, нужно либо принадлежать к третьей группе, либо, в каком-то смысле, не принадлежа ни к одной из групп, стоять над ними. Потому что если ты стоишь рядом с ними или находишься под ними, то ты не можешь их примирить. Вот Энгельс и утверждает, что государство, по-видимому, стоит над обществом. Да, оно порождено обществом, утверждает Энгельс, но, по-видимому, стоит над ним. А если оно стоит над ним, то оно и является посредником-примирителем. Никто не может выполнять подобную роль, не занимая позицию «над».
Ленин не может не процитировать Энгельса. Но он цитирует, оговаривая, что меньшевики и эсеры извращают Маркса, «подправляют» его, тогда как Маркс на самом деле считал государство органом классового господства, органом угнетения одного класса другим. Ленин пишет, «что государство — есть орган господства определенного класса, который не может (выделено В. И. Лениным — С.К.) быть примирен со своим антиподом (с противоположным ему классом), этого мелкобуржуазная демократия никогда не в состоянии понять. Отношение к государству — одно из самых наглядных проявлений того, что наши эсеры и меньшевики вовсе не социалисты (что мы, большевики, всегда доказывали), а мелкобуржуазные демократы с почти социалистической фразеологией».
Далее Ленин обсуждает более тонкие извращения Маркса, осуществленные Каутским. Причем он всё время возвращается к тому энгельсовскому определению, согласно которому государство есть сила, стоящая над обществом и всё более и более отчуждающая себя от общества.
Не уклоняясь от признания того, что Энгельс утверждал именно это, Ленин не желает признать, что если государство встало над обществом вообще, то есть над всеми классами общества, и если оно есть продукт отчуждения какого-то начала от всего общества, то есть, в том числе, и от господствующего класса (рабовладельцев, феодалов, капиталистов), то низвести государство просто к инструменту, с помощью которого господствующий класс-эксплуататор управляет эксплуатируемыми, невозможно. Тут надо либо начать полемизировать с Энгельсом, а Ленин не может себе этого позволить, либо не заметить данного утверждения Энгельса (но тогда на него сразу сошлются те, с кем Ленин полемизирует), либо всё время это утверждение Энгельса цитировать, но обходить все те неудобные следствия, которые неизбежно вытекают из данного утверждения Энгельса.
Ленин предпочитает обсуждать механизмы отчуждения государства от общества. И утверждает, что для Энгельса главный механизм — формирование особых отрядов вооруженных людей, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее.
Обсуждая, зачем понадобились особые отряды вооруженных людей, Ленин пишет:
«На вопрос о том, почему явилась надобность в особых, над обществом поставленных, отчуждающих себя от общества, отрядах вооруженных людей (полиция, постоянная армия), западноевропейский и русский филистер склонен отвечать парой фраз, заимствованных у Спенсера или у Михайловского, ссылкой на усложнение общественной жизни, на дифференциацию функций и т. п.
Такая ссылка кажется «научной» и прекрасно усыпляет обывателя, затемняя главное и основное: раскол общества на непримиримо враждебные классы.
Не будь этого раскола, «самодействующая вооруженная организация населения» отличалась бы своей сложностью, высотой своей техники и пр. от примитивной организации стада обезьян, берущих палки, или первобытных людей, или людей, объединенных в клановые общества, но такая организация была бы возможна».
Невозможность того, что воспроизвело бы формы, присущие примитивной организации стада обезьян, берущих палки, или первобытных людей, или людей, объединенных в клановые общества, вытекает, по Ленину, из раскола общества на непримиримо враждебные классы. И потому любая самодействующая вооруженная организация населения приводит к борьбе классов, обладающих своими инструментами для осуществления этой борьбы. То есть — вооруженными отрядами. Государство, утверждает Ленин, этого допустить не может. «Складывается государство, создается особая сила, особые отряды вооруженных людей, и каждая революция, разрушая государственный аппарат, показывает нам обнаженную классовую борьбу, показывает нам воочию, как господствующий класс стремится возобновить служащие ему (выделено В. И. Лениным — С.К.) особые отряды вооруженных людей, как угнетенный класс стремится создать новую организацию этого рода, способную служить не эксплуататорам, а эксплуатируемым».
Предлагая читателю оценить всё сразу — и определение Энгельса, и ленинскую уклончивость в том, что касается трактовки этого определения, — я вовсе не отклоняюсь от обсуждаемого мною «лафарговского вопроса». Я просто соединяю обсуждение этого вопроса со всем тем насущным, по поводу чего шла полемика в момент превращения марксизма из философии протеста в философию государственного строительства. А осуществлял это превращение, конечно, Ленин.
Осуществляя же его, он вновь и вновь возвращался к предыстории человечества, к этой самой примитивной организации стада обезьян, берущих палки, или первобытных людей, или людей, объединенных в клановые общества. То есть ко всему тому, что интересовало отнюдь не только Энгельса, но и Лафарга. Причем Энгельса и Лафарга «это первобытное и примитивное начало» интересовало по-разному.
В ноябре 1913 года, за четыре года до написания «Государство и революция», Ленин — уже не в первый раз — дискутирует с Горьким по вопросу о богостроительстве. И в этой дискуссии вновь возвращается к тому первобытному началу, которое Лафарг пытался исследовать более детально, нежели другие современные ему коммунистические мыслители. Ленин возвращается в данном письме к тем беседам с Горьким, которые, как он утверждает, имели место «во время нашего последнего свидания на Капри».
Ленин пишет не без иронии, что Горький порвал (или как бы порвал) с так называемыми «впередовцами». Согласитесь, сказать собеседнику «вы порвали или как бы порвали» невозможно, если ты не сдерживаешь очень серьезный негатив по отношению к нужному тебе и уважаемому тобой собеседнику.
Иронизируя по поводу имитируемого Горьким, как он считает, отстранения от Богданова и Луначарского, Ленин далее обсуждает определение бога, даваемое Горьким и теми, политические расхождения с которыми он демонстрирует. Ленин приводит это определение: «Бог есть комплекс тех выработанных племенем, нацией, человечеством идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм».
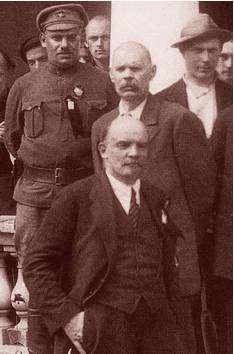
Обуздание зоологического индивидуализма — штука, согласитесь, серьезная. Хочешь не хочешь, но ведь его действительно надо как-то обуздывать. Ленин пишет Горькому: «...неверно, что бог есть комплекс идей, будящих и организующих социальные чувства. Это — богдановский идеализм, затушевывающий материальное происхождение идей».
Вплоть до развала СССР легко было повторять подобное вслед за Лениным и иронизировать по поводу Богданова и других. Но в ходе развала СССР мы увидели, что такое зоологический индивидуализм, который невозможно обуздать. Это крах общества и крах государства. И я не зря назвал общество, в котором зоологический индивидуализм не обуздан, не социумом, а «зооциумом». Мы наблюдаем сейчас борьбу социального и зоологического. Причем борьбу, невероятную по своему накалу. Мы наблюдаем также, как зоологическое постепенно завоевывает всё новые и новые территории, устанавливая на территории бывшего социального свой зоопорядок. И не из желания восславить идею бога или эту идею развенчать, а по причине понимания того, чем именно грозит дальнейшее наступление армий зооциума на территорию социума, мы говорим: «Кто бы ни сдерживал зооциум и его темное войско, наступающее на территорию человечности, этот кто-то может и должен быть нашим союзником в отстаивании гуманизма, то есть проведения пограничной черты между социальным и зоологическим и недопущения вторжения зоологического на территорию социальности».
Ленин пишет Горькому в 1913 году: «В действительности, «зоологический индивидуализм» обуздала не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и первобытная коммуна».
1913 год... 1917 год... Это всё — предреволюционная эпоха, внутри которой Ленин и не может относиться к идее бога иначе, нежели так, как он это формулирует в переписке с Горьким. И к государству он не может относиться иначе, нежели так, как он это формулирует в книге «Государство и революция». При этом отношение к богу и государству, конечно же, связаны воедино. Отношение Ленина к богу в предреволюционный период определяется не только его мировоззрением, но и политической прагматикой. Ленин по-человечески, будучи незаурядным представителем тогдашнего революционного просветительства, восславляющего атеистический разум, отторгает идею бога. Но он отторгает эту идею не только как мыслящая личность, но и как политик. Потому что в предреволюционный период любые компромиссы с религией, основанные на признании бога хотя бы этим самым комплексом нужных, как считает Горький, идей, означали для Ленина не только поворот к мировоззренческому мракобесию, но и поворот к совершенно недопустимому и неоднократно ему навязывавшемуся компромиссу с властью. А Ленин понимает, что сокрушить власть можно, только категорическим образом оторвав низы от любой идеи бога, легитимирующей эту и именно эту — существующую — власть.
В предреволюционный период, споря с Горьким или работая над книгой «Государство и революция», Ленин действует, сообразуясь и с политической целесообразностью, и со своим мировоззрением.
А потом наступает послереволюционный период, наполненный сначала упованиями на мировую революцию, а затем — осознанием суровой необходимости строить мощное государство российское. Да, конечно же, совсем другое, чем при царизме, но ведь — государство! А если государство вообще является тем, чем оно представлялось Энгельсу и каким оно представлено в «Государстве и революции», то его построение — это далеко не безусловное в мировоззренческом плане занятие. Чтобы после победы революции его оправдать, нужно не цитировать Энгельса и не обрушиваться на эсеров, меньшевиков и Каутского, а возвращаться к иным представлениям о государстве. Эти представления Ленин черпает у Гегеля.
А что значит — вернуться к Гегелю? Это значит сказать, что построенное Лениным государство уже не обладает той природой, которой обладало государство ранее, а напротив, обладает природой, близкой к той, которой наделял государство Гегель. Той природой, которую Энгельс, как мы убедились, яростно отвергал.
Заигрывая с Гегелем, Ленин, по сути, осуществлял в новой ситуации пересмотр своего спора с Горьким. Но только по сути. Богданова Ленин так и не принял, хотя и не раздавил. Он продолжал настаивать на атеистичности идеологии, понимая при этом, что обуздывать зоологический индивидуализм в рамках атеистичности весьма и весьма непросто. А если не обуздать его, то конец всему. Помните у Маяковского в «Разговоре с товарищем Лениным»:
Мы их всех, конешно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно.
Оказалось, что без решительного обуздания зоологического индивидуализма скрутить их всех не ужасно трудно, а невозможно. И что обуздать зоологический индивидуализм может только очень накаленный комплекс идей, наделенный могучим донельзя антизоологическим потенциалом.
Оказалось также, что с помощью сталинских жесточайших форм сугубо светского управления, направленного на подавление зоологического индивидуализма, этот зоологический индивидуализм можно только временно сдержать и загнать на глубину. Да и то только в ситуации войны, беды, мобилизованности на борьбу с очевидным страшным врагом. И, наконец, оказалось, что смягченные сталинские формы сугубо светского управления, предлагавшиеся Хрущевым и Брежневым, просто никак не могут сдержать этот самый зоологический индивидуализм — главный враг гуманизма, а значит, и человечества.
Смягченные сталинские формы сугубо светского управления позволяют зоологическому индивидуализму перегруппировать силы, структурно реорганизоваться и начать страшное наступление, которое и есть горбачевская перестройка, ельцинская постперестройка et cetera.
Являясь свидетелями этого чудовищного наступления и понимая, что оно продолжается, как мы можем не начать искать везде, где только можно, средства сдерживания и отбрасывания этого особого индивидуализма на территорию, где ему надлежит находиться?
Мы ведь не в 1913 году живем, не в эпоху сталинских пятилеток и даже не в относительно благополучные и умеренно зооиндивидуалистические 70-е годы XX века. Мы живем совсем в другую эпоху. И понимаем, что нужны совсем другие средства ведения войны с зоологическим индивидуализмом для того, чтобы победить.
И именно ради этой победы, альтернативой которой может быть только смерть человечества, мы вчитываемся в строки Лафарга, Маркса, Энгельса, Ленина, Горького, Луначарского, Богданова и других.
Коммунизм является единственной идеологией, позволяющей в XXI веке сдержать зоологический индивидуализм, взращиваемый в недрах западного постмодернизма и не случайным образом сопрягаемый с псевдорелигиозным контрмодернизмом, являющимся на самом деле лишь прологом к зооархаике.
Но классический коммунизм сдержать зоологический индивидуализм не смог. А значит, нужно искать и находить другой коммунизм, не разрывая с коммунистической традицией, а предельно ее расширяя и углубляя, что мы и делаем.
До встречи в СССР.
(Продолжение следует.)
















