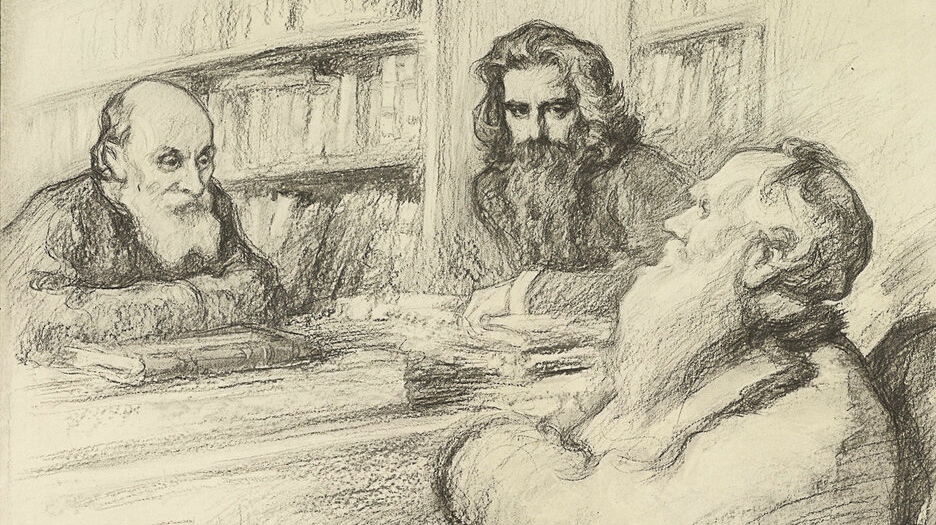О коммунизме и марксизме — 61

Вацлав Воровский — революционер, занятый гуманитарными проблемами, что называется, «по остаточному принципу». То есть лишь в той мере, в какой это совместимо с «деланием революции». Но будучи тонким и умным гуманитарием, Воровский ставит на повестку дня не обычную для революционера-большевика проблематику борьбы за справедливое общество, в котором человек не будет эксплуатировать человека. Воровский не отказывается от рассмотрения этой проблематики. Более того, будучи революционером-большевиком, он надеется на то, что отмена эксплуатации, отмена принципа «человек человеку волк», принципа войны всех против всех фундаментально изменит человеческое бытие и изгонит из этого бытия нечто, убивающее в человеке саму его человечность.
Нужно быть очень тонким гуманитарием для того, чтобы сказать, что Чехов писал предсмертный портрет нашей интеллигенции. Что казалось, после этого следующий портретист напишет эту интеллигенцию просто в гробу. Но что оскудевающая «интеллигенция оказалась живее, чем это можно было предполагать; она оказалась столь же живучей, как и тот строй, который ее породил». Это блестящая формулировка. Одна из лучших, которые я когда-либо обнаруживал в нашей литературной критике.
И всё же эта формулировка не вполне точна. Потому что Воровский не разграничивает понятия «живучее» и «живое».
Вначале он говорит, что интеллигенция оказалась живее, чем можно было предположить. А потом он говорит о том, что она оказалась столь же живучей, как и тот строй, который ее породил.
Можно назвать буржуазный строй живучим. И даже более живучим, чем кто-либо предполагал. Но назвать его живым — значит совершить политическую и метафизическую ошибку. Потому что живучесть современного буржуазного строя, строя мутакапиталистического, антикультурного, потребительского, покупается только одним — наращиванием мертвого начала внутри этой живучести.
Воровский пишет: «Умер дядя Ваня, застрелился Иванов, но около них народились и подросли новые интеллигенты. Такие же безвольные, такие же неспособные на дело».
Во-первых, не такие же, а другие, причем качественно другие.
Во-вторых, даже если не вовлекать в рассмотрение качественное различие между дядей Ваней, Ивановым и тем, что подросло на их месте, никуда нельзя уйти от констатации количественного различия между чеховскими героями и постчеховской новой порослью. Налицо другая, гораздо большая, чем у предшественников, степень безволия. И налицо другая, опять же гораздо большая, чем у предшественников, степень недееспособности, неспособности осуществлять какие-либо существенные дела.
Но оба эти количественных отличия меркнут перед отличием качественным. Строй, сохраняя живучесть, теряет жизнь. Или, точнее говоря, строй покупает наращивание живучести ценой умаления жизни.
Жизни у строя становится всё меньше, живучести всё больше. И возникает вопрос: когда строй продаст за сохранение живучести всю жизнь целиком, то чем именно он будет дальше покупать наращивание живучести?
В блестящей формулировке Воровского есть один важный для нас изъян. Воровский не противопоставляет живучесть жизненности. Он не то чтобы не ощущает наличия этого противопоставления, он не сосредотачивается на этом. У него другие задачи. Они вытекают из природы того строя, который Воровский как революционер намерен низвергнуть. Этот строй в России начала ХХ века еще не был мутакапиталистическим, постмодернистским и потребительским. Крохотные дозы мутаций капитализма, постмодернизма и потребительства были уже тогда. И российским тонким исследователям хватало этих крохотных доз для того, чтобы уловить нечто существенное и не находящееся в фокусе марксистской идеологии. А вот в начале XXI века мутакапитализм, постмодернизм и потребительство были вброшены в российскую жизнь в дозах не крохотных, а чудовищных. В дозах, призванных немедленно взорвать всю человечность как таковую.
Я не хочу сказать, что этот яд был изготовлен только для России. Он был изготовлен для человечества. Но человечество вообще, и западное в первую очередь долго потчевали этим ядом во всё больших дозах. И человечество не то чтобы привыкало к этому. Оно, обменивая жизненность на живучесть, сворачивалось в каком-то смысле автоматически. То есть не замечая ни факта этого обмена, ни феномена собственного сворачивания.
В России инъекции мутакапитализма, постмодернизма и потребительства были сделаны сходу, без какой-либо попытки постепенного повышения дозы этих инъекций. И родился другой, гораздо более открытый, острый, жесткий процесс.
В своей работе «Анатомия человеческой деструктивности» Эрих Фромм, очень крупный психолог и философ ХХ века, человек, ужаленный в сердце марксистской теорией отчуждения, пишет:
«Труд — обмен человека с природой — это такая важная часть нашего бытия, что освобождение труда от отчуждения представляет для нас куда более сложную задачу, чем усовершенствование нашего досуга. При этом речь идет всё же не о том, чтобы изменить содержание труда, речь идет о радикальных социальных и политических переменах, целью которых является подчинение экономики истинным потребностям человека».
В России конца ХХ — начала XXI века произошло диаметрально противоположное. Истинные потребности человека были принесены в жертву так называемой экономике. Причем такое жертвоприношение было осуществлено с предельной грубостью, открытостью и цинизмом. И о какой же жизненности может тогда идти речь? Живучесть строя была куплена путем убиения жизненности (она же истинные потребности человека). Кто в современной России осмелится заговорить об истинных потребностях человека? Давайте оглянемся вокруг себя и признаем, что об этом не осмеливается говорить никто, кроме тех, чью позицию я формулирую, в том числе, и в этом своем исследовании.
Для всех остальных нет никаких истинных, то есть высших, человеческих потребностей. Есть лишь потребительские запросы. Понимаете? Всё множество потребностей — как истинных, так и неистинных — сводится к этим потребительским запросам. Экономика чрева, культура чрева, психология чрева и, наконец, метафизика чрева. Где тут место истинным потребностям человека? И что остается от человека, если в этом его истинным потребностям места нет, а это представляет собой «наше всё»?
Эрих Фромм пишет: «Существует много причин, из-за которых хроническая компенсированная форма скуки в целом не считается патологией. Главная же причина, очевидно, состоит в том, что в современном индустриальном обществе скука становится спутником большинства людей. А такое широко распространенное заболевание как патология нормальности, вообще не считается болезнью».
Фромм говорит о «патологии нормальности», понимаете? Вы попробуйте вставить эту патологию в повестку дня современной России, да и современного человечества в целом. Между тем, осью сегодняшней социальной, политической, культурной, психологической и антропологической проблематики является именно эта патология нормальности. Она же — всё большее умаление жизненности ради обеспечения живучести. Причем даже не живучести отдельного человека, а именно живучести мутакапиталистического, постмодернистского, потребительского устройства жизни человека, человеческих обществ-народов и, наконец, всего человечества.
Разбирая патологию нормальности, Фромм пишет: «Состояние обычной нормальной скуки, как правило, человеком не осознается. Многие люди умудряются найти ей компенсацию, сознательно стремясь в суете сует утопить свою тоску. Восемь часов в сутки они заняты тем, чтобы заработать себе на жизнь, когда после окончания работы возникает угроза осознания своей скуки, они находят десятки способов, чтобы этого не допустить: это выпивка, телеэкран, автомобиль, вечеринки, секс и даже наркотики. Наконец, наступает ночь, и естественная потребность в сне успешно завершает день. Можно сказать, что сегодня одна из целей человека состоит в том, чтобы убежать от собственной скуки».
Эрих Фромм исследовал общество, которое он называл современным индустриальным. Это еще не было до конца потребительское общество. Мутакапитализм лишь начинал разворачиваться. Фромм ощущал угрозу этого разворачивания, но как исследователь он имел дело с причудливой смесью капиталистических и мутакапиталистических свойств современного ему западного общества.
Поэтому Фромм не ставил ребром тот вопрос, который сейчас уже явным образом является основным. Вопрос о том, куда именно бежит человек, основная цель которого, как говорил Фромм, «убежать от собственной скуки». Сегодня для нас уже очевидно, что человек эпохи мутакапитализма, постмодернизма и потребительства бежит от скуки в это самое потребительство. А куда еще ему бежать?
Рассматривая общество гораздо более здоровое по сравнению с сегодняшним, Фромм писал: «Нередко можно услышать такое мнение, что проблема заключается не в том, чтобы сделать работу интереснее, а в том, чтобы сократить рабочее время: сделать так, чтобы человек мог использовать досуг для своих талантов и наклонностей».
Выражая свое скептическое отношение к такой возможности, Фромм выносит очень важный и очень мрачный вердикт. Он пишет: «Однако сторонники таких идей, очевидно, забывают, что свободное время давно стало объектом манипулирования со стороны индустрии потребления. Оно несет такой же отпечаток скуки, как и труд, хотя мы это не всегда осознаем».
Вдумаемся: тот, кто исследует еще не до конца больное потребительством гибридное общество (отчасти еще капиталистическое и модернистское, а отчасти уже мутакапиталистическое и постмодернистское), уже констатирует, что свободное время стало объектом манипулирования со стороны индустрии потребления. Что говорить о нынешнем обществе, из которого в его западном варианте всё капиталистически-модернистское ушло и оказалось замещено полностью мутакапиталистическим постмодернистским потребительством? В этом обществе свободное время становится объектом тотального манипулирования со стороны индустрии потребления, превращающейся в сферу, где производится только два продукта: скука и суррогатные средства ее избытия.
Потребительское общество обязано производить скуку как главное средство наращивания потребления. Чем выше градус скуки, тем острее желание ее подавить. При этом средством подавления скуки, средством ее избытия в потребительском обществе должно стать и становится только потребление.
Для того чтобы мутакапиталистический, постмодернистский, потребительский строй был живучим, он должен наращивать скуку как единственное тотальное средство собственного выживания. И предлагать потребление как единственное лекарство от скуки. С чем это можно сравнить? С огромной фармацевтической компанией, которая не только производит лекарства, но и производит болезни, позволяющие увеличить запрос на эти лекарства. При этом для того, чтобы наращивать свой доход, эта фармацевтическая компания должна производить всё больше лекарств, а значит... Значит, и всё больше больных, нуждающихся в этом лекарстве. В рамках такого расширенного производства болезней и лекарств строй может быть очень живучим.
Но, во-первых, он при этом становится всё менее жизненным.
А во-вторых, рано или поздно такой строй создаст сто процентов больных и выйдет на максимум производства лекарств. С этого момента такой строй ликвидирует сам себя. И чем он себя заменит? Только стопроцентным нацизмом.
В самом деле, если мотивом перестанет быть наращивание производства больных и производство лекарств, то что станет мотивом? Только уничтожение больных. А этим займется уже не потребительско-постмодернистский мутакапитализм, а некий монстр, сформировавшийся в его чреве и ждущий часа для того, чтобы выйти наружу.

Другой великий психолог и философ ХХ века, Виктор Франкл, вторит Эриху Фромму: «Экзистенциальный вакуум — явление, широко распространенное в наши дни. Это вполне понятно и может быть объяснено той двойной потерей, которой подвергся человек с тех пор, как стал действительно человеком. В начале человеческой истории человек потерял некоторые из основных животных инстинктов, которые определяли поведение животного и посредством которого оно охранялось. Такая защита, подобно раю, закрыта для человека навсегда. Вдобавок к этому, при последующем развитии человек претерпел вторую потерю: традиции, которые служили опорой его поведения, сейчас быстро разрушаются. Никакой инстинкт не говорит ему, что он вынужден делать. Никакая традиция не подсказывает ему, что он должен делать, вскоре он уже не знает, что он хочет делать...»
Констатируя такую ситуацию, Франкл далее говорит о том, что, с моей точки зрения, полностью определяет разницу между самым качественным классическим коммунизмом и марксизмом индустриальной эпохи и тем коммунизмом и марксизмом, которые должны сформироваться как ответ на вызов новой эпохи — мутакапиталистической, постиндустриальной и потребительской. Франкл пишет: «Экзистенциальный вакуум проявляется в основном в состоянии скуки. Теперь вполне понятен Шопенгауэр, когда он говорил, что человечество, по-видимому, обречено вечно колебаться между двумя крайностями — нуждой и скукой. Действительно, скука в наше время ставит перед психиатром гораздо больше проблем, нежели нужда».
Констатируя это, Франкл далее поддерживает Фромма и в том, что касается свободного времени. Он говорит, что проблемы скуки «растут с угрожающей быстротой, так как процесс автоматизации, по-видимому, приведет к значительному увеличению свободного времени. Беда состоит в том, что большинство не знает, что же делать с вновь образовавшимся свободным временем».
Добавим к этой констатации Франкла то, что Фроммом сказано о свободном времени как объекте манипуляции со стороны общества потребления. Причем манипуляции, во времена Фромма еще не такой тотальной, как сейчас.
И что тогда получится?
Первое. Что марксизм и коммунизм 1.0 имели дело в основном с вызовом нужды и отвечали на этот вызов.
Второе. Что этот вызов нужды и сейчас является ключевым во многих странах мира.
Третье. Что будучи таким до сих пор для большинства человечества, вызов нужды не является уже фундаментальным, каковым он был в эпоху коммунизма и марксизма 1.0.
Четвертое. Что фундаментальным становится вызов скуки.
Пятое. Что марксизм и Коммунизм 2.0 должны отвечать уже не на вызов нужды, а на вызов скуки.
Шестое. Что оба эти вызова продолжают существовать, и что нельзя уклоняться от ответа на вызов нужды. Но нельзя и полностью растворяться в этом вызове.
Седьмое. Продолжая отвечать на вызов нужды, марксизм и Коммунизм 2.0 должны перестраиваться системно. При этом системообразующим теперь становится вызов скуки.
Восьмое. Тем самым скука и нужда могут быть приравнены друг к другу и в равной степени считаться продуктами определенного устройства жизни. При этом нужда — это главный продукт устройства жизни, именуемого «классический капитализм». А скука — это главный продукт устройства жизни, именуемого «мутакапитализм».
Девятое. В классическом коммунизме и марксизме есть ответ на вызов под названием скука. И этот ответ — теория отчуждения. Мы не изобретаем этот ответ, приукрашивая коммунизм и марксизм. Мы просто всерьез читаем настоящего Маркса, настоящую коммунистическую литературу — как художественно-философскую, так и теоретическую; как литературу прошлых эпох, так и литературу современную.
И что же получается? Что Александр Блок, будучи не социальным психологом, не марксистом, не революционером, а великим художником и философом, увидел в скуке некий супервызов тогда, когда его еще не видели социальные психологи и философы. Что его прозрение является не только художественным, но и общественно-политическим, причем опережающим свое время. И что сражаясь за свое общество, свой народ и всё человечество, мы бросаем вызов некоему суперпауку, сущность которого — скука. Что скука — не легкомысленное малозначимое слово, что она ничуть не менее фундаментальна, чем нужда. И, наконец, что не скука является окончательным вызовом нового типа, а нечто, что эту скуку превращает в страшную национальную и общечеловеческую угрозу. Каково же это нечто?
(Продолжение следует.)