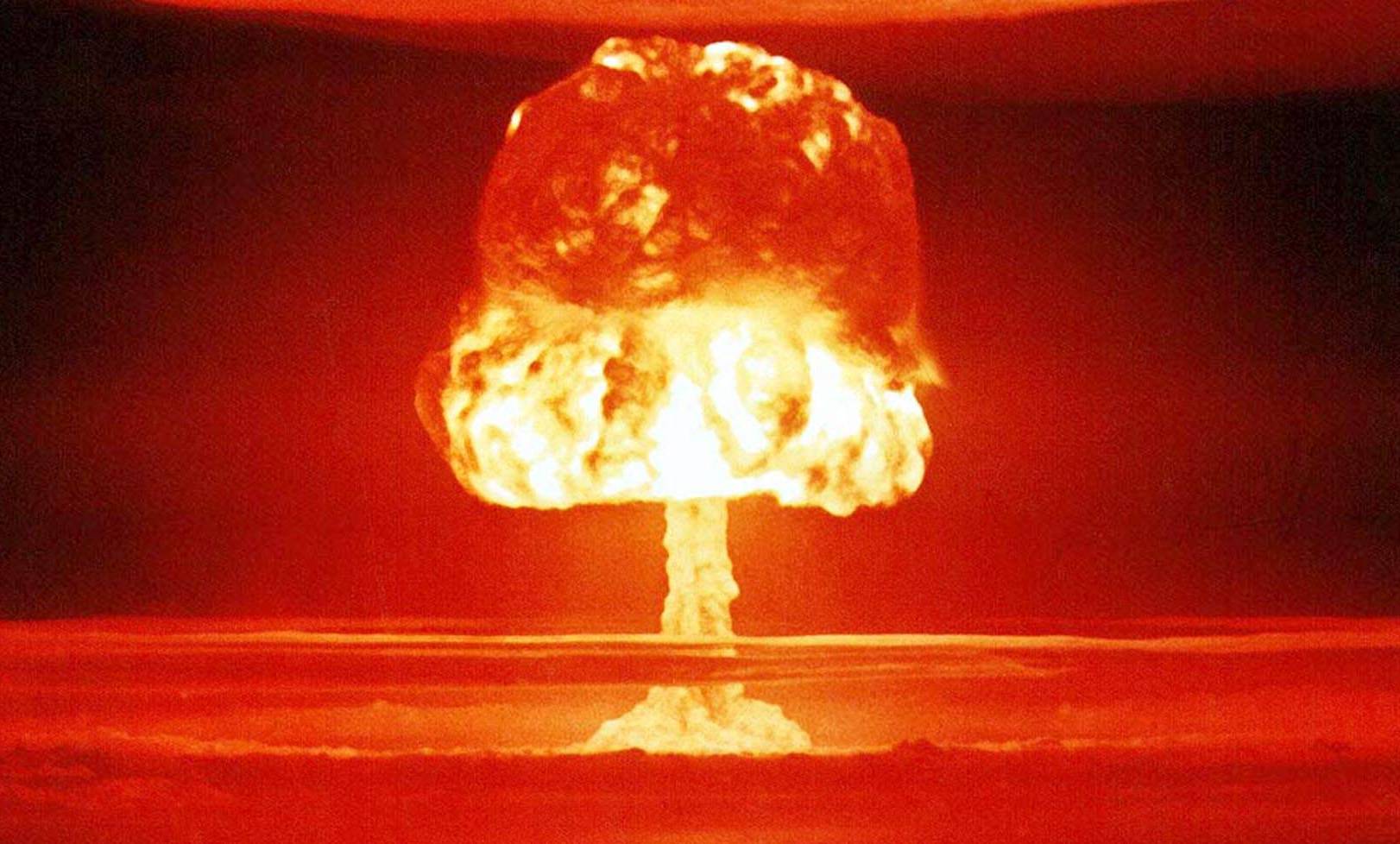О коммунизме и марксизме — 73

Умберто Эко (1932–2016) — выдающийся итальянский ученый, философ, теоретик культуры, писатель. Один из предметов его научного интереса — соотношение различных форм культуры. Под различными формами имеются в виду в данном случае высокая культура и культура, названная массовой.
Термин «массовая культура» возник в 40-е годы XX века. Его ввели в оборот представители Франкфуртской социологической школы, достаточно близкие к марксизму и много занимавшиеся развитием так называемого неомарксизма. Во Франкфуртскую школу входили очень разные исследователи. Наиболее известные из них — Теодор Адорно (1903–1969), Макс Хоркхаймер (1895–1973), Герберт Маркузе (1898–1979). В эту школу можно включить с определенными оговорками и уже обсуждавшихся нами Эриха Фромма, Вальтера Беньямина и других.
Вообще-то, Франкфуртская школа — понятие достаточно размытое. Речь идет о мыслителях, так или иначе связанных с институтом социальных исследований во Франкфурте-на-Майне и относящих себя к той или иной разновидности критической теории современного индустриального общества.
В одной из своих программных статей, написанной в 1937 году и названной «Традиционная и критическая теория», Макс Хоркхаймер заявил о том, что он и его коллеги разработали «концепцию особого рода теоретического знания, ключевыми характеристиками которого были <...> междисциплинарность и практико-политическая ангажированность».
В критическую теорию входят критические проекты, именуемые еще проектами критической теории. Проекты могут быть очень разными. Авторы проектов занимаются всем, чем угодно, но чем бы они ни занимались, их проекты должны эффективно разоблачать идеологические механизмы того общества, которое критикуют исследователи. В общем-то, они критикуют общество Просвещения (или общество Модерна), выявляя как бы его изнанку и обнаруживая в осуществляемом этим обществом производстве знания некую червоточину, превращающую это «производство знания» в производство чего-то, имеющего лишь косвенное отношение к настоящему знанию.
В том, что говорят представители критической школы, много справедливого. Проект Просвещение (или проект Модерн — понятия близкие, хотя не тождественные) очень уязвим. Он отягощен избыточной рациональностью, действительно очень сильно обусловлен интересами господствующего буржуазного класса и так далее.
Но ведь Маркс и его соратники, классические коммунисты, существенно отличающиеся от тех неокоммунистов, которых начали сооружать представители Франкфуртской школы, тоже критиковали буржуазное общество, причем беспощадно. Может быть, и их можно причислить к ученым, ориентированным на критическую школу?
Казалось бы, почему бы нет? Но классический марксистский коммунизм настолько далек от этой самой критической школы, что это никто никогда не пытался делать. Наиболее близкие к марксизму ученые, условно включаемые в критическую школу, такие как Вальтер Беньямин и Эрих Фромм, тоже на самом деле страшно далеки от того, что может быть названо ядром школы или ее стержнем. Чем ближе тот или иной ученый к настоящему марксизму, тем дальше он от критической школы.
Адорно и Хоркхаймер задают это самое ядро или стержень школы. Всё остальное связано со школой более или менее отдаленно. Совсем уж отдаленно связаны с ней, повторяю, Беньямин и Фромм.
Я вовсе не хочу сказать, что Франкфуртская школа не привнесла ничего нового в понимание той буржуазной действительности, которую я в данном исследовании назвал мутакапитализмом. Представители Франкфуртской школы по крайней мере поставили вопрос о том, что современное им буржуазное общество XX века представляет собой нечто, существенно отличающееся от классического буржуазного общества. Они обратили внимание на то, что классическому буржуазному обществу действительно был свойствен классовый характер, а постклассическому буржуазному обществу этот характер уже не свойствен. И — выразили предельное беспокойство по поводу этой метаморфозы, потому что она, по их мнению, превратила так называемое демократическое общество в монолитную тоталитарную систему. Подчеркиваю: такой системой представители обсуждаемой мною школы именовали не только советский коммунизм или немецкий нацизм — они говорили о том, что в современном постклассическом капитализме созревает особый тоталитаризм, вполне уживающийся с формальными демократическими институтами.
Констатируя отсутствие классов вообще и пролетариата в частности, представители обсуждаемого направления утверждали, что революционную роль преобразования общества в силу этого должны брать на себя другие силы. Какие?
Для кого-то из них такой силой являлась молодежь.
Для кого-то — некие аутсайдеры.
Для кого-то — интеллигенция, действующая по необходимости сама по себе, ибо действовать вместе с пролетариатом она не может по причине его отсутствия.
Всё, что представители Франкфуртской школы предлагали в качестве новой революционности, не опирающейся на пролетариат, окончательно провалилось во время так называемой революции 1968 года.
Эта революция, она же — майские события 1968 года или Красный май 1968 года, не просто провалилась. Она продемонстрировала высокую степень манипулятивности того явления, которое именовалось революцией нового типа. И, в общем-то, стала предтечей так называемых оранжевых революций.
Началась эта революция с леворадикальных студенческих выступлений, потом такие выступления приобрели характер массовых беспорядков. На эти массовые беспорядки наложилась десятимиллионная всеобщая забастовка. В результате выдающийся французский политик Шарль де Голль (1890–1970), пытавшийся проводить линию на реальный суверенитет Франции и ее независимость от США, был отстранен от власти. Это отстранение не привело к возникновению какой-то особой левой и уж тем более социалистической Франции. Напротив, оно по факту породило гораздо большую зависимость Франции от США. И поэтому многие считают, что, по большому счету, краснота данной революции является псевдокраснотой, находившейся на таком же услужении у США и транснациональных корпораций, совокупность которых левые именовали ТИГ (транснациональное империалистическое государство), как и итальянские Красные бригады и многие другие псевдореволюционные структуры.
С 1968 года претензии Франкфуртской школы и неомарксизма на лидерство в революционном движении были фактически сведены к нулю. Но это не сводит к нулю роль этой школы в обнаружении того, что, возможно, и нельзя назвать «открытиями», но что, безусловно, является существенным вкладом в понимание происходящего. И что либо оказалось справедливым обнаружением неявных тенденций, либо как минимум выступило в качестве стимула, побудившего следующие поколения исследователей к движению в определенном направлении.
Что же конкретно было обнаружено?
Обнаружена была радикальная и очень коварная новизна постклассического буржуазного общества. Это общество, по мнению обсуждаемых мной исследователей, спрятало свой новый тоталитаризм под оболочкой демократических институтов и процедур. Для представителей Франкфуртской школы такой новый тоталитаризм опирается на некую технократичность постклассического буржуазного общества. Я бы назвал такую технократичность «гуманитарной технократичностью». Ввожу этот термин для того, чтобы не было соблазна приравнять технократичность, о которой говорили обсуждаемые мной исследователи, к научно-техническому прогрессу. «Гуманитарная технократичность», на которую опирается, по мнению обсуждаемых мной исследователей, постклассическая буржуазия, создавшая неявное тоталитарное государство и неявное тоталитарное общество, особо опасна тем, что она освоила супермассовое производство так называемого ложного сознания.
А еще было обнаружено размывание граней между тем, что действительно выполняет или должно выполнять настоящую функцию культуры в обществе, и тем, что эти функции не выполняет, но претендует на их выполнение.
То, что, не выполняя настоящих функций культуры, претендует на то, чтобы выполнение этих функций осуществить, именуется массовой культурой. Массовая культура — важнейшее слагаемое общества потребления. О ней заговорили с особой тревогой, конечно же, в эпоху телевидения. Перестроечные события в СССР показали, на что способно это самое телевидение, когда оно оказалось в руках высокопоставленных деструкторов из КПСС (А. Н. Яковлева и его окружения) и было соединено определенным образом с деструктивными интеллигентскими диссидентскими группами, продемострировав свою способность к замаскированному тоталитаризму, затыканию ртов оппонентам, блокированию дискуссий и фактическому запрету на мышление (что такое знаменитая перестроечная книга «Иного не дано», как не запрет на мышление?).
К сожалению, первыми о массовой культуре заговорили философы с весьма консервативной ориентацией, такие как Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955), написавший книгу «Восстание масс», Карл Ясперс (1883–1969), написавший книгу «Духовная ситуация времени», Освальд Шпенглер (1880–1936), написавший книгу «Закат Европы» и Жан Бодрийяр (1929–2007), написавший книгу «Фантомы современности». Если авторы, названные мной до Бодрийяра, постмодернистами не являются, то Бодрийар — это один из основоположников постмодернизма.
Все названные мной мыслители испытывали более или менее острое отвращение к тому, что они именовали массами. И противопоставляли эти самые массы, губительно воздействующие на культуру, культуротворческим и культуроподдерживающим элитам.
Такое высокомерие не могло не привести к заигрыванию с крайними формами консерватизма. Хотя, конечно же, ни Ортега-и-Гассета, ни Ясперса, ни Шпенглера, ни, тем более, Бодрийяра нельзя отнести к прямым апологетам того, что сформировалось под видом ультраконсерватизма в 30-е годы XX века и получило обобщенное название «фашизм». Конечно же, скорбь названных мной философов по поводу гибели культуры в объятьях массы полностью разделял Фридрих Ницше. Но если перечисленные мной философы просто скорбели по данному поводу, то Ницше предлагал определенные модели выхода из ситуации, связанные со специфическим почитанием природы, созданием иначе связанного с ней человека (человек-зверь, белокурая бестия, человек как то, что надо преодолеть) и с той самой волей к власти, которая должна заменить на новом этапе волю к смыслу.
Можно ли свести оценку роли мыслителей, скорбевших, образно говоря, что массы душат и задушат культуру в объятьях, к отрицанию подобной массофобии, порождающей разрушительный высокомерный элитаризм? Конечно, нет. Эти мыслители уловили новую тенденцию, порождающую разрушение классов. Поэтому если осмелиться сводить утверждения этих исследователей к общему знаменателю (а это рискованно, потому что каждый из исследователей совершенно уникален, не сводимый ни к каким общим характеристикам мыслитель), то этим общим знаменателем окажется не презрение к социальным низам как таковым, а крайние формы беспокойства по поводу того, что эти низы теряют социальную структурность, становятся чем-то аморфным и легко управляемым, деклассируются, маргинализируются. И что именно такое превращение народа в массы таит в себе огромную опасность. Повторяю, я не берусь утверждать, что все перечисленные мной исследователи так уж любили народ и противопоставляли его массам. Но в целом, если оно, повторяю, есть, речь идет именно о подобном взгляде на происходящее.
Только задав такой очень примерный контекст, я могу вернуться к теме Умберто Эко. Потому что отношение этого мыслителя к массовой культуре существенно отличается от того отношения к этому явлению, которое в целом свойственно тем, кого я перечислил выше.
Конкретно это воплощается в том, как именно Умберто Эко занимался массовой культурой. Он занимался ею без всякого пренебрежения. Он с увлечением обсуждал роль комиксов, мультфильмов, масс-культурной песни, научной фантастики. Он анализировал генезис и структуру романов о Джеймсе Бонде, тему супермена. Он с увлечением обсуждал романы-бестселлеры от Александра Дюма до Яна Флеминга.
Умберто Эко не восхваляет всё, что он обсуждает. Но его отношение к этому никак не сводится к элементарной скорби. Наиболее ярко это проявляется в том, как именно Умберто Эко относился к теме супермена. Исследователь, с одной стороны, доказывал, что супермен — это один из новых мифов, опирающийся, как и все мифы, на мифологичность как таковую. С другой стороны — он выявлял новизну этого мифа, демонстрируя, что супермен как бы всемогущ, но одновременно способен использовать это всемогущество только для того, что никак нельзя назвать масштабным деянием.
Такие рамки деятельности супермена вытекают из структуры общества, в котором он должен реализовывать себя как нового мифического героя. Для того чтобы быть созвучным этому обществу, супермен должен вобрать в себя неспособность этого общества соединить гражданское сознание с политическим и создать целостную картину мира. А раз общество к этому неспособно, то супермен неизбежно оказывается загнан в рамки, задаваемые этой неспособностью. Тем самым супермен становится мифом, по сути, не заключающим в себе идеологического послания. Удовлетворение потребности в мифе, соединенное с неспособностью этого мифа выполнить идеологическую функцию, став идеологическим посланием, пусть и особого типа — вот что такое постмодернизм как механизм удовлетворения определенного запроса и механизм формирования этого запроса одновременно.
Умберто Эко, возможно, лучше других понимал, что такое постмодернизм. Потому что постмодернизм лукаво отказывается и от понимания самого себя (оно, видите ли, присуще другим, слишком элементарным эпохам, отягощенным рефлексией), и от собственной целостности (ее он отрицает так же, как и все другие целостности).
Обсуждая представление британского социолога Зигмунта Баумана (1925–2017) о так называемом текучем обществе, формируемом на волне постмодерна, Умберто Эко называл постмодерн «чем-то вроде зонта, под которым укрылось множество феноменов из разных областей». И одновременно — говорил о постмодернизме как о некотором улавливателе кризиса великой повествовательной традиции. Ссылаясь на Баумана, Умберто Эко говорил о том, что помимо кризиса великой повествовательной традиции в текучем обществе имеет место «кризис государственности (какая же свобода в принятии решений остается национальным государствам перед лицом торжества международных монополий?). Исчезает институция, гарантировавшая единицам возможность по заданной схеме решать проблемы нашего времени».
Итак, постмодернизм отражает исчезновение единственной институции, гарантировавшей индивидуумам некие возможности какого-то участия в чем-то общезначимом. Что еще он отражает?
Исчезновение идеологии (к вопросу о супермене как первом мифе, не несущем никакого идеологического послания, то есть пародии на миф).
Эко констатирует что, «вместе с кризисом государственности наметился и идеологический кризис, и соответственно партийный, следовательно, теперь лишено смысла любое апеллирование к общественным ценностям, позволявшее отдельно взятому индивидууму чувствовать свою принадлежность к общности, формулировавшей его потребности».
Ну и что дальше? Что постмодернизм еще отражает кроме кризиса всего общественного? И только ли он отражает это?
Согласно представлениям Эко о реальности, отражаемой (а по мне, так и формируемой) этим самым постмодернизмом «в ходе кризиса всего общественного расцветает безудержный индивидуализм, превращающий ближнего из попутчика в противника, которого следует остерегаться. Такой «субъективизм» подорвал основы эпохи модерна, сделав его хрупким, и вот при полном отсутствии ориентиров всё растворяется в своего рода текучести. Теряется правовая уверенность (судопроизводство воспринимается как враг), и возможным выходом для индивидуума, не имеющего какой-либо точки отсчета, становится, с одной стороны, создание видимости любой ценой, то есть видимость преобразуется в самостоятельную ценность...»
Постепенно, как мы видим, возникает картина отнюдь не частных кризисов (кризиса великой повествовательной традиции, кризиса государственности, кризиса идеологии, кризиса права). Всё это слипается в нечто гораздо большее. Во что же именно?
(Продолжение следует.)