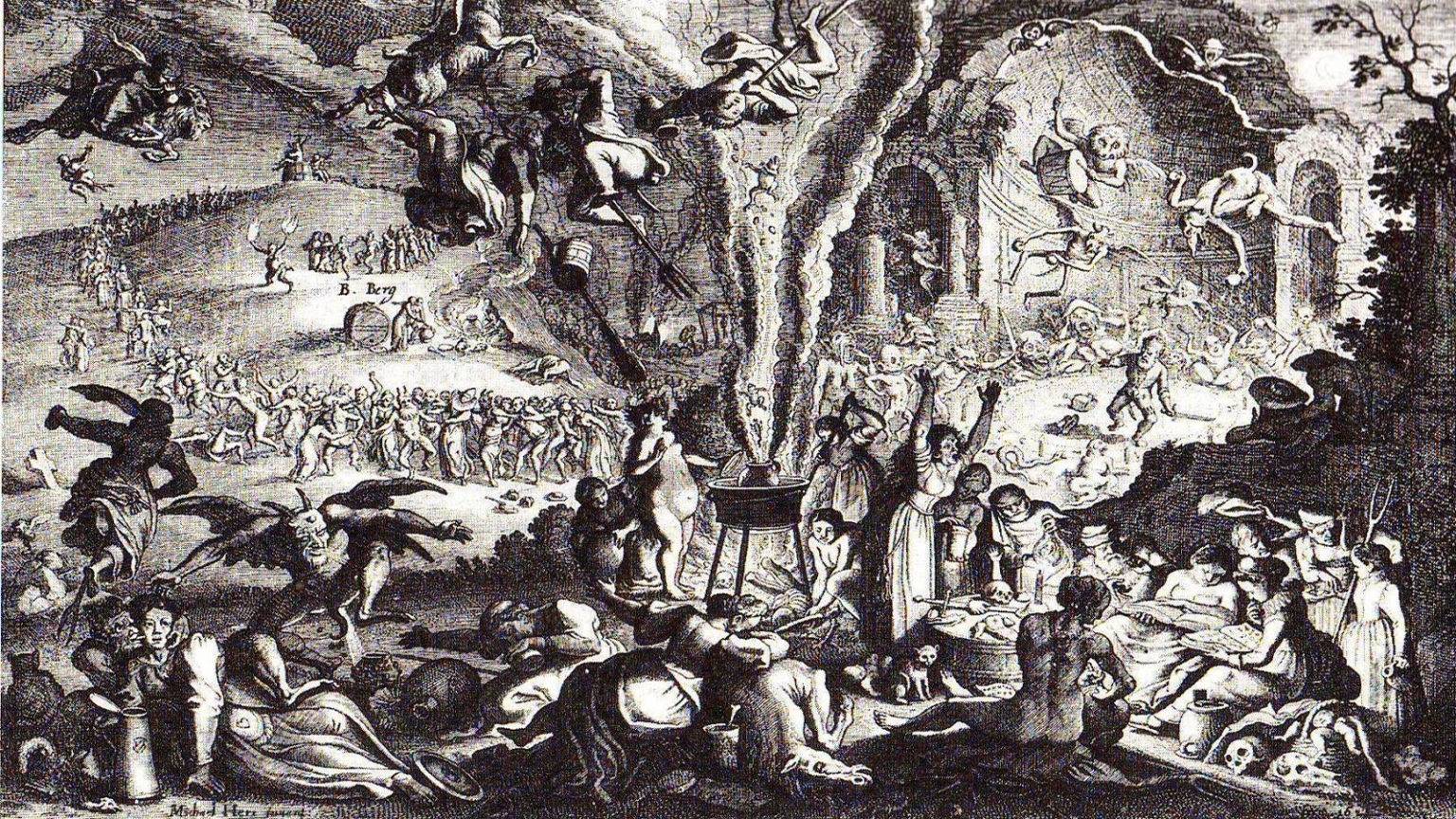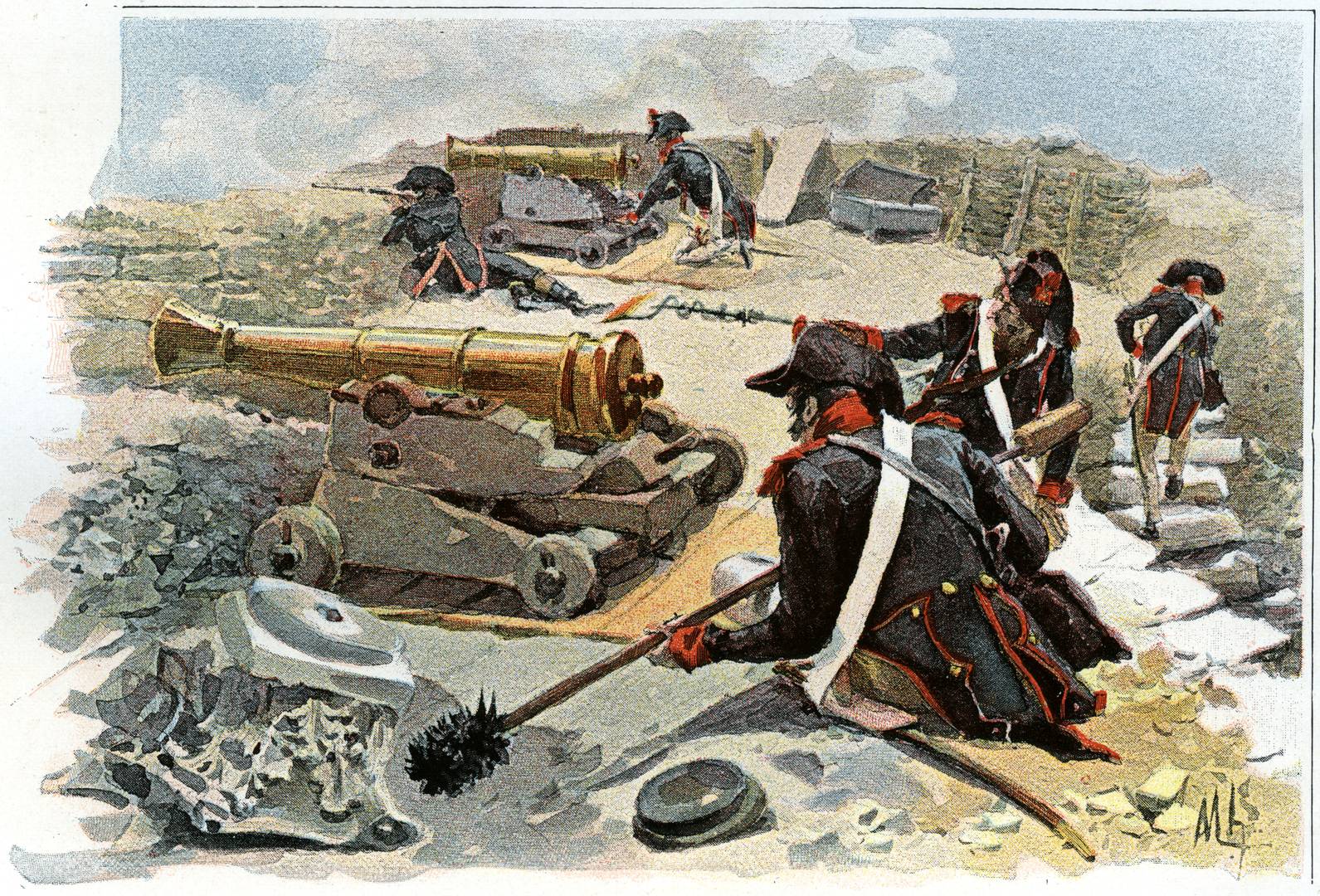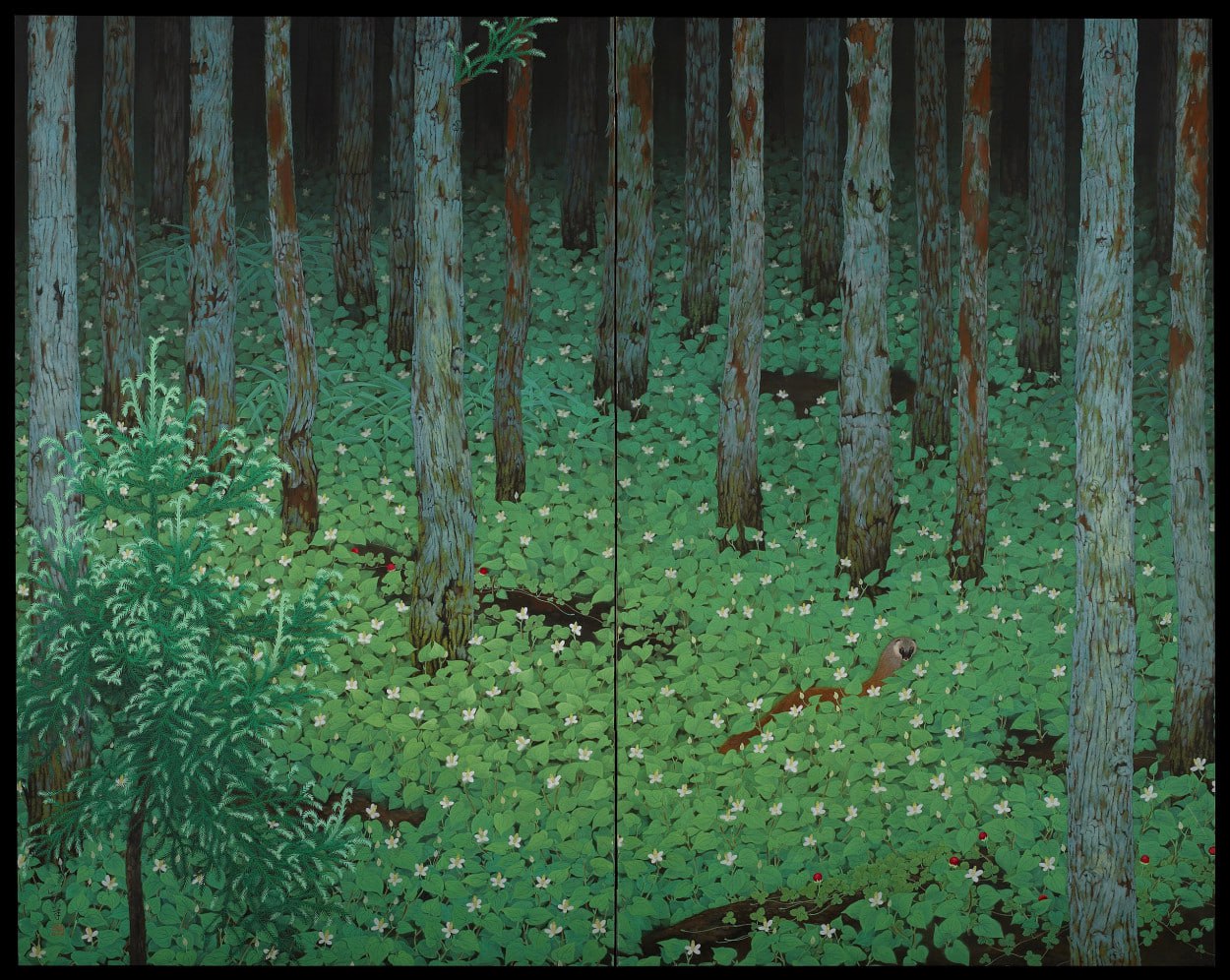О коммунизме и марксизме — 81

Продемонстрировав на конкретных примерах, что классовая борьба не является его сомнительным открытием, что ее наличие признано к моменту написания письма к Вейдемейеру даже идеологами враждебного ему консервативно-буржуазного толка, Маркс переходит к обсуждению соотношения между прогрессивностью и реакционностью того или иного класса — и его приверженностью к тем или иным «свободам».
Коммунист Карл Маркс демонстрирует отсутствие подобной связи между прогрессивностью класса и его верностью идее свободы — на примере свободы торговли.
Он показывает, что далеко не всегда относительно прогрессивный класс буржуазии стоит именно за свободу (да и в целом за всё хорошее).
И что далеко не всегда относительно реакционный класс феодальной аристократии стоит за несвободу (в случае свободы торговли ею является монополия) и в целом за всё плохое.
Маркс пишет:
«А чтобы какой-нибудь невежественный «муж, наделенный характером» — вроде Гейнцена, не вообразил себе, что аристократы за, а буржуа против хлебных законов, потому что первые отстаивают «монополию», а вторые «свободу», — ведь для добродетельного филистера противоположности существуют только в этой идеологической форме, — следует лишь отметить, что в XVIII веке аристократы в Англии стояли за «свободу» (торговли), а буржуа за «монополию», то есть занимали те же позиции, какие соответственно занимают оба этих класса по отношению к «хлебным законам» в данный момент в «Пруссии». «Neue Preusische Zeitung» — самая ярая сторонница свободы торговли».
Поскольку многие понятия, используемые Марксом, современный читатель легко может отнести в разряд недоопределенных, то считаю невредным вкратце обсудить, кто такие филистеры, к разряду которых Маркс относит своего оппонента. Кстати, немцы, введшие в оборот это слово в конце XVII века, поначалу не придавали этому понятию негативный смысл. Они называли филистерами этаких могучих людей, похожих на могучего филистимлянина — библейского Голиафа.
Какое-то время и у нас в стране существовала традиция, согласно которой быть филистером хорошо. Пушкин хвалебно именовал своего Ленского филистером, говоря о нем, что он «душой филистер геттингенский». Пушкин также писал своему знакомому, что надеется на скорую встречу, называя этого знакомого «любезным филистером».
Но в дальнейшем в силу ряда причин, которые здесь вряд ли следует обсуждать, значение этого слова резко изменилось. И в итоге филистерами начали называть самодовольных ограниченных людей, чуждых духу просвещения, людей, погруженных в обывательско-конформистскую тину и в этом смысле являющихся антиподами подлинно просвещенных людей.
Великий русский критик и философ Белинский (1811–1848), обсуждая, чем именно читатели любезных его сердцу «Отечественных записок» отличаются от читателей периодических изданий противоположного толка, написал в своей рецензии о стихотворениях Лермонтова, напечатанной в конце 1840 года: «Отечественные записки» всегда будут иметь в виду не толпу, а публику».
Раскрывая понятие публики, Белинский добавляет: «Публика есть собрание известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно мыслящих людей; толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, другими словами — из людей, которые
Не могут сметь
Свое суждение иметь.
Такие люди в Германии называются филистерами, и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем».
Позже, в 1851 году, выдающийся немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860) в своих «Афоризмах житейской мудрости» написал: «Упомяну здесь, что человек, не имеющий вследствие нормальной, впрочем — ограниченности, умственных сил, никаких духовных потребностей, называется филистером — слово, присущее лишь немецкому языку, возникнув в студенческой жизни, термин этот получил позже более широкий смысл, сохранив, однако, прежнее основное значение — противоположности «сыну муз».
Раскрывая значение этого слова, действительно использовавшегося первоначально в немецкой студенческой среде, бурно реагировавшей на то, что некие филистеры, которые до определенного периода не были средоточием зла, подавляют студенческие свободолюбивые буйства, Шопенгауэр утверждает, что филистерам в широком понимании (очень быстро вышедшем за рамки клички, употреблявшейся в студенческой среде и, повторяю, означавшей поначалу всего лишь «могучий филистимлянин») свойственно отсутствие всех видов духовной и душевной тонкости.
Шопенгауэр рисует такой портрет типичного филистера: «Никакое стремление, ни к познанию и пониманию, ради них самих, ни к собственно эстетическим наслаждениям, родственное с первым, — не оживляют его существования. Те из подобных наслаждений, которые ему навязаны модой или долгом, он будет стараться «отбыть» как можно скорее, словно каторгу. Действительными наслаждениями являются для него лишь чувственные. Устрицы и шампанское — вот апофеоз его бытия; цель его жизни, — добыть всё, способствующее телесному благоденствию».
Читатель может упрекнуть меня в том, что я слишком подробно обсуждаю, что такое филистер. И этот упрек был бы справедлив, если бы не два весьма существенных обстоятельства.
Обстоятельство № 1. Мы сейчас живем в эпоху повального господства этих самых филистеров. Причем если в предыдущие эпохи филистеры хотя бы пытались чему-то соответствовать и отбывали некие высокие «повинности», то теперь и это отсутствует.
Приведу пример. В советскую эпоху филистеры охотились за собраниями сочинений Толстого, Достоевского, Пушкина и так далее. Зачем? Всего лишь — чтобы, отбыв повинность, поставить эти собрания сочинений себе на полку и показывать гостям. Кстати, в конце советской эпохи наиболее продвинутые филистеры соглашались даже поставить на свои полки некие лжекниги, которые имели такие же обложки, что и книги настоящие, но ничего кроме обложек не было. Эти лжекниги можно было поставить на полки в своей квартире, и гость мог, увидев обложки, убедиться в высокой культурности того, кто поступил подобным образом. Содержание книг подобного соискателя престижности не волновало ни в какой мере, и он понимал, что гость, который к нему придет, тоже не будет интересоваться этим содержанием и снимать книгу с полки не станет.
А еще филистеры в советскую эпоху отбывали повинность, выстаивая очередь за билетами на фильмы Феллини или Антониони. Правда, у большинства филистеров не хватало мужества досидеть до конца сеанса. И давка перед началом сеанса с характерными для той эпохи выкриками «у кого есть лишний билет?» дополнялась массовым свалом через 30 минут после начала показа подобного престижного, но очень трудного кинофильма.
Однако советский филистер все-таки отбывал какие-то культурные, духовные повинности. Постсоветский филистер не делает и этого.
Кроме того, советский филистер, хотя и был весьма многочисленным, не преобладал настолько, насколько он преобладает в постсоветскую эпоху.
Далее — в советскую эпоху не так просто было разобраться, кто филистер, а кто нет. Потому что большинство филистеров стремилось выглядеть просвещенными людьми. Сейчас этого нет и в помине. Сегодняшний филистер опрощается и рвет отношения по части всего духовного и культурного радостно и неприкрыто, в какой-то степени даже напоказ.
И в связи с этим возникает вопрос о том, есть ли вообще в постсоветском обществе нефилистеры как серьезная макросоциальная группа и что такое общество, в которой такой группы нет.
Возникает также вопрос о том, в какой степени перестройка и постперестроечное псевдобуржуазное время можно считать контрреволюцией филистеров, стремящихся не только обогащаться, но и освобождаться от разного рода высших повинностей — культурных, духовных, идеологических, моральных и иных.
Много возникает, увы, вопросов в связи с появлением слова «филистер» в обсуждаемом нами тексте Маркса. Но это лишь одно из обстоятельств, требующих такого подробного обсуждения.
Обстоятельство № 2 задается тем напряженным вниманием к феномену филистерства, которое свойственно было не только Белинскому или Шопенгауэру, но и самому Марксу.
В мае 1843 года совсем молодой Маркс пишет письмо к одному из так называемых младогегельянцев, ключевому члену некоего тайного «Союза молодых», приговоренному в 1826 году к 15-летнему заключению в крепости и помилованному в 1830 году, Арнольду Руге (1802–1880). В 1843 году Руге переезжает из Германии во Францию, оседает в Париже и знакомится с Карлом Марксом. Марксу — 25 лет.
В 1844 году Руге сотрудничает с Марксом (работает вместе с ним в новом журнале «Форвэртс»). Но уже зимой того же года Руге расстается с Марксом, не договорившись с ним о политической линии журнала. Руге, как и Гейнцен, настаивает на абсолютной спасительности буржуазно-демократической республики. При этом он, как и Гейнцен, является революционером, дружит с очень многими революционерами, принадлежит к так называемым крайне левым.
На следующем этапе своей жизни Руге предельно сблизился с «железным канцлером» Отто фон Бисмарком (чего не сделал Маркс) и даже стал получать от него большое почетное денежное довольствие за заслуги перед прусской политикой. Таков вкратце человек, которому Маркс пишет в 1843 году очень важное для нас письмо.
В своем письме Маркс называет Руге «дорогой друг» и пытается утешить своего «дорогого друга», тоскующего о несовершенстве рода человеческого. Маркс пишет Руге: «Предоставим мертвым хоронить и оплакивать своих мертвецов».
И добавляет: «Но завидна участь — быть первыми среди тех, кто со свежими силами вступает в новую жизнь. Пусть это будет и нашим уделом».
Далее следует глубокое и обширное рассуждение молодого Маркса о филистерах и филистерстве. Для того чтобы читатель убедился в том, что для Маркса слово «филистер» не является расхожим ярлыком, навешиваемым на оппонента, а имеет глубокий смысл, я приведу развернутую цитату. Маркс пишет: «Это верно — старый мир принадлежит филистеру, и не следует относиться к филистеру как к пугалу, от которого боязливо отворачиваются. Напротив, мы должны внимательно к нему присмотреться. Стоит изучить этого господина мира».
Итак, Маркс называет филистера господином мира. Это является неопровержимым доказательством той значимости, которую Маркс придает филистерам и филистерству. При этом Маркс тут же оговаривает, что «филистер — господин мира только в том смысле, что филистерами, их обществом, кишит мир, подобно тому как труп кишит червями. Поэтому филистерское общество нуждается только в рабах, собственники же этих рабов не нуждаются в свободе. Хотя их, как собственников земли и людей, называют господами, разумея их превосходство над всеми остальными, тем не менее они такие же филистеры, как и их челядь».
Маркс пытается проникнуть в глубь мотивации обсуждаемых им филистеров вообще и немецких филистеров в первую очередь. И потому ставит ребром вопрос о том, чем, собственно, филистер отличается от животного. При этом Маркс, утверждая, что удел филистера — жить и размножаться, ссылается аж на самого Гёте. Но если удел филистера таков, говорит Маркс, то этот удел ничем не отличается от удела животного, с той лишь разницей, что животное не размышляет о своем уделе, а филистер вообще и немецкий политик как образец филистерства в частности знает о том, что его удел — только жить и размножаться, и потому филистер хуже животного. Маркс прямо говорит об этом: «...какой-нибудь немецкий политик, — пишет он Руге, — разве еще прибавит: но человек-то знает, что он этого хочет, а немец настолько, мол, рассудителен, что ничего большего он и не хочет».
Отнесясь подобным образом к филистерству и тем самым придав ему фундаментальный философско-политический смысл, Маркс переходит к проблеме современного ему западного человечества, которое утратило с давних пор чувство своего человеческого достоинства. Маркс формулирует проблему следующим образом: «Чувство своего человеческого достоинства, свободу, нужно еще только пробудить в сердцах этих людей. Только это чувство, которое вместе с греками покинуло мир, а при христианстве растворилось в обманчивом мареве царства небесного, может снова сделать общество союзом людей, объединенных во имя своих высших целей, сделать его демократическим государством».
В только что процитированном мною высказывании Маркс поднимает два вопроса.
Первый — о греках и христианстве, которое якобы растворило чувство человеческого достоинства в некоем «мареве царства небесного». Утверждая, что каждый человек, в том числе и раб, обладает бессмертной душой, христианство тем самым фактически сделало невозможным рабство, то есть крайнюю несвободу. Такую несвободу, при которой раб вообще не считается человеком, а считается вещью или животным. Как только раб перестает рассматриваться как животное или вещь, сам институт рабства ставится под вопрос. Так что однозначность умаления человеческой свободы христианством как минимум проблематична. Да и вообще существуют сложнейшие связи между свободой внешней и свободой внутренней. А то, что пространство внутренней свободы было христианством фундаментально расширено, вряд ли целесообразно подвергать сомнению. Было оно расширено христианством, да еще как. Вряд ли стоит подвергать сомнению также и то, что расширение внутренней свободы очень разными путями приводит и к обострению потребности в свободе внешней. Тут, конечно, всё не так однозначно. Если у тебя есть внутренняя свобода, то возникает соблазн предпочесть ее всем остальным видам свободы. Но такое соотношение между двумя видами свободы, существуя, никак не умаляет и другие соотношения.
Вторая проблема, затронутая в последнем из приведенных мною утверждений Маркса, — спасительность демократии во всем, что касается борьбы с преобладанием филистерства. Современная псевдодемократия, как мы все знаем, очень склонна стимулировать это самое филистерство и прекрасно с ним сочетается. Но стоит ли ставить знак равенства между такой псевдодемократией и демократией как таковой?
Как бы там ни было, мы убеждаемся, читая письмо Маркса к Руге, что Маркс на раннем этапе своей философско-политической деятельности (конкретно — в 1843 году) еще ставит знак равенства между демократией и союзом людей, объединенных именно во имя высшей цели. Что для раннего Маркса, как и для Гейнцена, с которым он потом начинает беспощадно полемизировать, пробудить человеческое в людях, низвергнутых в ад филистерства, должна демократия. Позже Маркс скажет, что эту же задачу должен выполнить коммунизм, а буржуазная демократия лишь усилит филистерство, то есть состояние, в котором люди не чувствуют себя людьми в полном смысле этого слова. Вот что Маркс говорит о подобных людях: «Люди же, которые не чувствуют себя людьми, становятся для своих господ неотъемлемой собственностью, как приплод рабов или лошадей. Потомственные господа — вот цель всего этого общества. Этот мир принадлежит им. Они берут этот мир таким, каков он есть и каким он себя чувствует. Они берут себя самих такими, какими они себя находят, и садятся на шею политических животных, которые не знают другого назначения, как быть для своих господ «преданными, всегда готовыми к услугам верноподданными».
Здесь Маркс начинает сопрягать понятие филистерства с понятием «политического животного», существующим, как известно, со времен Аристотеля. Вот как Маркс осуществляет такое сопряжение в своем письме к Руге:
«Филистерский мир — это мир политических животных (здесь и далее выделено мною — С.К.), и раз мы должны признать его существование, нам ничего не остается, как просто-напросто считаться с этим status quo. Века варварства породили и сформировали этот порядок, и вот он стоит теперь перед нами в виде последовательной системы, принцип которой — обесчеловеченный мир».
В 1843 году Маркс еще испытывает надежды на то, что развитие процессов возвращения человека к своей незвериной и в чем-то даже антизвериной сущности может осуществляться на основе идеалов Французской революции, которая, как пишет Маркс в своем письме Руге, снова стала восстанавливать человеческое в человеке. С особой остротой реагируя на разницу между Францией, где что-то как-то пытаются восстанавливать, и Германией, где филистерство оказалось непоколебленным, Маркс пишет: «Немцы — столь рассудительные реалисты, что все их желания и самые возвышенные мысли не выходят за пределы их убогой жизни. Эта-то действительность — и ничего больше — принимается в расчет теми, кто господствует над немцами».
Далее Маркс начинает обсуждать сам этот принцип господства, который может осуществляться лишь постольку, поскольку высшее человеческое начало полностью уничтожено. Маркс вспоминает в этой связи Наполеона, которому приписывалось высказывание «Посмотрите на этих жаб!» — якобы Наполеон произнес это, лицезря своих солдат, тонущих в реке Березине. Маркс пишет: «Этот рассказ о Наполеоне, по всей вероятности, вымысел, но тем не менее он выражает истинное положение вещей. Единственный принцип деспотизма это — презрение к человеку, обесчеловеченный человек, и этот принцип лучше многих других в том отношении, что он вместе с тем является и фактом. Деспот видит людей всегда униженными. Они тонут на его глазах, тонут ради него в тине обыденной жизни и, подобно лягушкам, постоянно появляются из нее вновь. Если такой взгляд возникает даже у людей, которые были способны на большие дела, — таким был Наполеон до своего династического безумия, — как же может быть идеалистом в такой реальной обстановке совсем заурядный король?»
Далее Маркс дискутирует с Монтескье, утверждавшим, что честь является принципом монархии. Обвиняя Монтескье в том, что тот лукаво противопоставлял монархию тирании и деспотии, Маркс заявляет: «Принцип монархии вообще — презираемый, презренный, обесчеловеченный человек». И далее подчеркивает, что проблема состоит не в том, какие желания и мысли выскажет тот или иной монарх, а в том, что «филистер — материал монархии, а монарх — всего лишь король филистеров».
Маркса это особо беспокоит в связи с некими гуманистическими поползновениями нового прусского монарха Фридриха Вильгельма IV, взошедшего на престол в 1840 году. Маркс пишет: «Прусский король сделал попытку изменить систему при помощи теории, о чем его отец и понятия не имел. Судьба этой попытки известна. Она потерпела полное крушение. Весьма понятно — почему. Раз мы опустились до уровня мира политических животных, то еще более глубокая реакция уже невозможна, и всякое движение вперед может заключаться только в том, что будет оставлена позади основа этого мира и будет осуществлен переход к человеческому миру демократии».
Подчеркну еще раз — в 1843 году, когда написано это письмо Руге, Маркс верит в спасительность демократии. А через 9 лет, к моменту написания письма к Вейдемейеру, Маркс жестко полемизирует с представителем того самого радикально-демократического направления, к которому 9 лет назад принадлежал он сам.
(Продолжение следует.)