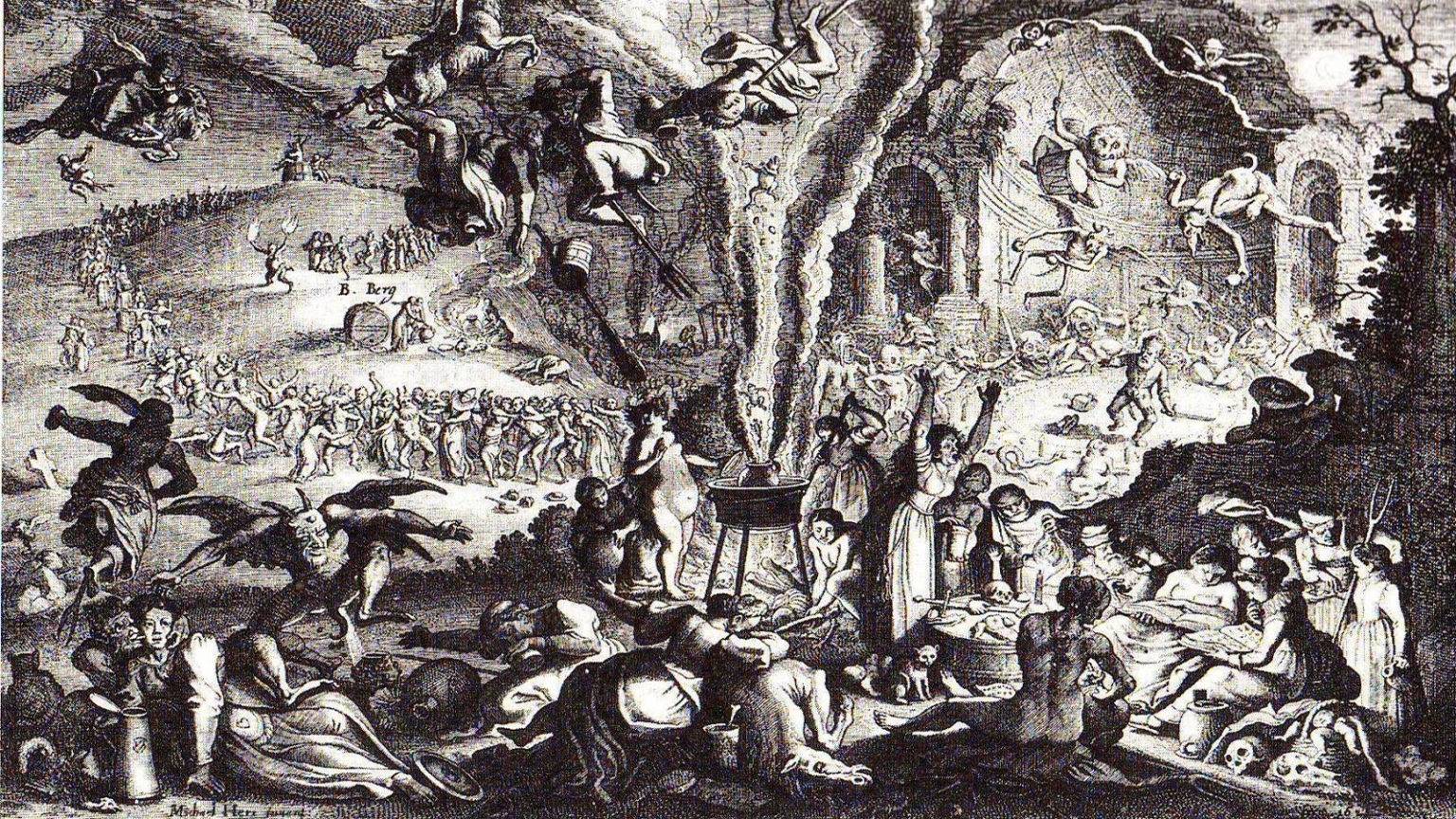Судьба гуманизма в XXI столетии
Читатель, которого я побуждаю к внимательному изучению позиции митрополита Макария и его оппонентов, вправе решить, что страсть к исследованию религиоведческой проблематики увела меня очень далеко от выбранного пути. И что, отдавая дань этой страсти, я поволоку читателя за собой в некий водоворот религиоведческих частностей.
Не спорю, религиоведческая проблематика меня, человека принципиально и фундаментально светского, всегда интересовала, сейчас интересует и будет интересовать в дальнейшем. Я даже сумел, занимаясь стратегической аналитикой, одновременно за последние двадцать лет сформировать некую школу сравнительного религиоведения. А сформировав эту школу, обсудить те результаты, которые эта школа смогла получить. Обсуждал я эти результаты: а) на протяжении многих лет и б) с весьма компетентными религиоведами и религиозными деятелями. Причем отнюдь не только отечественными.
Но я бы никогда не стал подменять философско-гуманистическую фундаментальную проблематику проблематикой религиоведческой. Во-первых, потому что это в высшей степени некорректно. И, во-вторых, потому что философско-гуманистическая проблематика меня волнует несравнимо больше, нежели религиоведческая. Я и стал-то заниматься сравнительным религиоведением потому, что почуял нарастание фундаментальной скверны в мире, вдруг затеявшем весьма сомнительное самопреобразование.
Почуяв эту скверну, я, естественно, стал себя спрашивать: «Сама ли она пришла в мир? Или ее кто-то в мир приволок?» То есть я, конечно, понимаю, что если в мире не появляется определенная скверна в качестве продукта самого этого мира, то никакие злодеи мир скверной не заразят. В народе по этому поводу говорится: сука не захочет — кобель не вскочит. Если мир не захочет скверны и не начнет ее производство из собственных подсобных материалов, то никакие злодеи ничего не сделают. Но ведь любые злодеи (а они, как мы понимаем, просто не могут не существовать) не занимаются заражением здорового мира вирусом той или иной скверны. Злодеи следят за тем, в каком состоянии находится мир, за его, так сказать, собственными колебаниями. И накладывают свои, крохотные, вынуждающие колебания на эти собственные колебания таким способом, чтобы два типа колебаний породили новый процесс, в котором скверны станет очень и очень много.
У моста, по которому идут солдаты, как и у любой другой системы, есть свои собственные частоты. Если начать раскачивать мост как этакую супертяжелую конструкцию, навязывая ему в процессе раскачивания частоты иные, нежели те собственные частоты, которыми он обладает как динамическая система (а любая динамическая система обладает собственными частотами), то мост почти никак не отреагирует. Грубо говоря, замучаетесь его раскачивать таким образом.
А вот если выявить собственные частоты моста как динамической системы и начать воздействовать на мост именно на его собственных частотах, то можно мост очень сильно раскачать, причем с минимальными затратами усилий. Такая раскачка в физике именуется резонансом. От солдат, идущих по мосту, специально требуют, чтобы они шли не в ногу. Потому что если они идут в ногу, то случайно та частота, которая порождается их хождением в ногу, может совпасть с одной из собственных частот моста. И тогда мост может обрушиться. Была на эту тему даже бардовская песенка:
Повторяйте ж на дорогу Не для кружева-словца, А поверьте же, ей-богу, Если все шагают в ногу — Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!
Вот почему всегда смешно, когда спрашивают: «Как вы считаете, это естественный, объективный процесс? Или это вынуждающие колебания, которые навязывают процессу злодеи?»
Помилуйте, почему «или-или»? Ни один серьезный злодей не будет навязывать процессу, протекающему в динамической системе, неимоверно более сложной, чем мост, который мы только что обсудили, вынуждающие колебания, не совпадающие с собственными колебаниями системы. Любой серьезный злодей просто изучит собственные колебания системы. А также ее особые точки и многое другое. А потом он начнет воздействовать на систему в соответствии с ее собственным естеством. Любой сапер знает, что воздействовать надо именно так. И, конечно же, саперы, которые подрывают не обыкновенные механические системы (дома, мосты и так далее), а общества, будут действовать так же.
Ведь общества — это сложнейшие динамические системы. Внутри таких систем всегда идет борьба противоборствующих тенденций. Констатация наличия такой борьбы, порождающей движение системы по определенной траектории (где под траекторией имеется в виду совокупность точек, каждая из которых определяет параметры системы в определенный момент времени), — это альфа и омега так называемого диалектического подхода. Предположим, что одна из тенденций — гуманистическая. А другая — антигуманистическая. Как злодей-антигуманист будет воздействовать на систему с тем, чтобы победила антигуманистическая тенденция?
Он исследует собственные колебания системы и окажет на нее крохотное воздействие с нужной, так сказать, частотой. Эти крохотные колебания с определенной частотой (антигуманистической в нашем случае) взрывным образом активизируют всю собственную антигуманистическую внутрисистемную «колебательность». Система сменит тогда гуманистическую траекторию на антигуманистическую и придет в нужную злодею или злодеям финальную точку.
Отложим на время обсуждение собственных гуманистических и антигуманистических колебаний в сверхсложных системах, каковыми являются человечество и отдельные человеческие сообщества. И присмотримся к другим борющимся тенденциям. Таким, как региональное и глобальное, национальное и универсальное. В человеке боролось, борется и будет бороться природное (звериное, инстинктивное) и собственно человеческое. То есть культурное.
Все культуры складываются вокруг определенных религиозных, то есть метафизических, ядер. Ядром культуры является культ. Недаром слова «культ» и «культура» созвучны. Накаленное культовое ядро создает культурную периферию. Со временем накал ядра остывает. При этом культурная периферия на начальных стадиях такого остывания вовсе не начинает автоматически остывать вслед за ядром. В каком-то смысле она может воспользоваться остыванием ядра для собственного блага. Ведь не всегда определенные растения для своего расцветания нуждаются в супервысоких температурах, не правда ли? Чаще всего они в этом очевидным образом не нуждаются. Так и культура.
Яростный накал раннего христианства не порождал таких буйных и восхитительных всходов христианской культуры, которые порождал, например, тот же Ренессанс. Я не хочу сказать, что довозрожденческая христианская культура или предельно грубая культура совсем раннего христианского периода не порождали высочайших достижений. Они их, конечно, порождали. И не сразу человечество эпохи остывания христианского культа научилось эти особые высочайшие достижения опознавать.
Итак, процессы в культовом ядре определенных обществ, иногда именуемых мирами или цивилизациями, и процессы на культурной периферии этих обществ протекают по-разному. Но если ядро совсем остывает, то культура, порожденная этим ядром, всё же умирает. Не сразу, конечно, но умирает. И нужен новый культ, дабы родилась новая культура. Сначала дающая скупые плоды в силу избыточной накаленности культа, потом начинающая давать богатейшие плоды, а потом опять-таки умирающая.
Ислам, христианство, да, в общем-то, и все мировые религии — это универсалистские культы, создающие универсалистские же культуры. Что значит «универсалистские»? Это значит — претендующие на формирование универсума.
Христианство стремится, чтобы все живущие на планете стали христианами, жили по христианской правде, образовали единое христианское человечество, то есть христианский универсум.
К тому же самому стремится и ислам. А также, повторю еще раз, любая по-настоящему мировая религия, — монотеистическая, конечно же, в первую очередь.
Ни яростно, накаленно мыслящему и чувствующему христианину, ни таковому же мусульманину не представляется возможным сосуществование в рамках одного человечества двух религий вообще, а уж двух религий с одинаково универсалистскими притязаниями — тем более.
Понимаю, что это мое утверждение породит массу возражений. Мол, сосуществуем же мы как-то на планете. И даже ведем межрелигиозный диалог. Дерзну утверждать, что потому и ведем, что эпоха яростно накаленных культовых ядер — христианского и мусульманского — уже позади. Что ядра поостыли. Что, поостыв до умеренных температур, они породили фантастически богатые культуры, вполне способные к диалогу между собой, а также к восприятию великого предшествовавшего им человеческого наследия. А вот пока мы имели дело с накаленными культовыми ядрами, ни о каком таком диалоге речи быть не могло. Отсюда — бесконечные, по сути, претензии халифатов, распространявшихся в разные времена и на Испанию с Францией, и на Австрию с Германией. Да, в общем-то, — и на весь мир. Отсюда — аналогичные христианские претензии, порожденные ими крестовые походы и многое другое.
Радикальные русские националисты, стремящиеся сочетать свою идеологию с православием и христианством в целом, поносят почем зря любой интернационализм — как коммунистический, так и христианский. И тщетно пытаются извлечь созвучное им содержание из слов апостола Павла: «Несть Иудей, ни эллин...» (Гал. 3:28).
Конечно же, их либеральные противники, навязывающие либеральную унификацию всего и вся, в том числе и под соусом особого христианства, неверно толкуют данное высказывание апостола Павла. Которое стоит привести полностью:
«Вси бо вы сынове Божии есте верой о Христе Иисусе. Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Несть Иудей, ни эллин, несть рабъ, ни свободъ, несть мужеский пол, ни женский, вси бо вы едино есте о Христе Иисусе».
Конечно же, консервативные христиане, ориентирующиеся на национальные традиции, справедливо упрекают либеральных христиан, а также либералов вообще в том, что они трактуют данное высказывание апостола Павла как отказ от национального как такового. Их ирония, адресованная своим оппонентам (мол, тогда надо и от мужского и женского отказаться), конечно же, справедлива. И, конечно же, апостол Павел говорит не о том, что нет народов как таковых. А о том, что через Христа могут быть спасены все народы, исповедовавшие до принятия ими христианства разные религии, в том числе эллинскую и иудейскую.
Не отрицание народов, а утверждение их одинакового права на спасение во Христе — вот в чем несомненная суть высказывания апостола Павла. Одновременно апостол утверждает, что все — и богатые, и бедные, и женщины, и мужчины — имеют одинаковое право на это спасение. Кстати, именно наличие этого права и является непреодолимым препятствием на пути к построению многоэтажного человечества: многоэтажность обязательно предполагает неравенство права на спасение или даже отсутствие права на спасение у определенных категорий. Например, у бедных.
Но одно дело — освободить рассматриваемое нами утверждение апостола Павла от неверной и упрощенной либеральной трактовки. А другое дело — попытаться совместить эти слова с представлением об исключительности того или иного народа. Или же — с представлениями о том, что после настоящей, накаленно-универсалистской христианизации бывший эллин и бывший иудей по-прежнему останутся осуществляющими свое христианское спасение по-разному, с ориентацией на свою разную народную суть.
Такая трактовка, безусловно, не имеет никакого отношения к апостолу Павлу, проповедовавшему в условиях накаленного раннего христианского универсалистского культа. Доказать это радикальным националистам — русским или любым другим, пытающимся соединить свой радикальный национализм с христианством вообще и с православием в частности, а также с исламом — невозможно. Но все, кто разразятся яростными тирадами в ответ на наши слова об универсалистском содержании сказанного апостолом Павлом, прекрасно знают, что имеет место именно это универсалистское содержание. Оно просто их не устраивает по понятным причинам. Отсюда все тирады на тему «да пошли вы к черту с вашим фундаментальным универсализмом, не имеющим на самом деле никакого отношения к нашему христианству/православию!»
Нет накаленного раннего христианского культа без универсализма. Нет его и не может быть (то, что этот же культ может стать иным при остывании, мы уже обсудили выше). И мы видим, что как только в том же исламе, например, возникает позыв к новому нагреванию культа и превращению его из почти холодного в накаленный добела, — речь начинает идти об универсализме. И о беспощадной войне с любыми национализмами — арабским, турецким, персидским и так далее. И уж тем более с совсем мелкими национализмами — иракским, египетским, сирийским.
Либо накаленная добела мировая религия — и тогда универсализм как ее следствие. Либо — остывание этой религии и допущение национализма.
Об этом говорит вся мировая история, буквально пересыщенная проистекающей из этого трагедийностью. Есть два народа, например, французский и испанский. И оба они в Средние века, а также на исходе Средних веков являлись накаленно католическими. Да, потом во Франции возникнет протестантизм/гугенотство. Возникнут кровавые войны на этой почве. Но это потом. Кстати, в такое «потом» включено и остывание католицизма, которое не нравилось части христиан, желавших обрести новое, более накаленное христианство, оно же — протестантизм, оно же — реформизм.
Конечно, накал можно повысить и с помощью католической контрреформации, чем и занялся Игнатий Лойола, создавая орден иезуитов. И ведь не он один. Но я предлагаю здесь рассмотреть этап, на котором во Франции еще не было раскола на католиков и протестантов. Этап, на котором Франция являлась такой же накаленно католической страной, как и Испания.
На этом этапе невозможно найти внутри достаточно чистого и накаленного католицизма никакого обоснования тому, что французы будут воевать с испанцами, а испанцы — с французами. Но они же воевали! И наиболее накаленные французские католики, те же Гизы, например, не понимали, зачем нужно воевать. Ну, пусть возникнет имперский католический универсум, в котором найдут место и испанцы, и французы, пусть национальный дух будет побежден духом Священной Римской империи — так справедливо утверждали те же Гизы. А их — опять же справедливо — упрекали в национальной измене.
Никакие уловки, ориентированные на сопряжение национального и универсального в рамках накаленного христианства, ничего, поверьте, не дают и не могут дать. По этому поводу можно написать сотни или тысячи страниц, сославшись на крупнейшие авторитеты. Но в данном случае достаточно просто оговорить это несомненное обстоятельство. Для того чтобы вырваться из этого капкана неумолимой универсальности, надо назвать универсалистское христианство экзотерикой, то есть внешним культом. И добавить к этому культу культ тайный, эзотерический. Он-то и станет ядром национальной христианской (или исламской) религиозности, а универсализм станет периферией этой религиозности.
В сущности, это и есть основополагающее утверждение в рамках той школы сравнительного религиоведения, которую нам удалось создать. Утверждение это подтверждается сокрушительной массой фактов. При этом эзотерика должна стать своего рода христианизированным язычеством. Потому что язычество-то как раз не предполагает никакой накаленной универсальности: «Вот наши боги, вот ваши боги... Давайте воевать. При этом пусть каждый мобилизует на поддержку своих богов. Или не воевать, опять же, сосуществуя в рамках разных языческих пантеонов, проявляя любопытство по отношению к чужим пантеонам, сопоставляя свои и чужие пантеоны, выявляя параллели и так далее».
Древо с эзотерическим национальным стволом, экзотерической универсалистской кроной и определенными корнями — вот с чем мы имеем дело. Изучение таких конструкций (а именно конструкциями являются системы религиозных преемственностей, существующие несмотря на то, что универсалистский элемент этой системы отрицает все остальные элементы, да и неуниверсалистские элементы трудно сосуществуют) — единственный способ нащупать фундаментальную гуманистическую и антигуманистическую проблематику. Сложно построенные социокультурные системы... Нетривиальные внутрисистемные социокультурные коды... Вот что мы исследуем, занимаясь внимательным прочтением рассуждений о двоичности (тело и душа) или троичности (дух, душа и тело) человеческой.
Так что давайте будем вчитываться в слова религиозных авторитетов, дающих разные ответы на тот вызов, который содержится в проблематике двоичности или троичности человеческой, — не как религиоведы, а как философы и системные аналитики. И не надо роптать на то, что это уводит в сторону. Напротив, только это выводит нас на новый отрезок пути, по которому мы движемся к искомым для нас ответам.
Я уже приводил высказывание митрополита Макария: «Если же некоторые из древних учителей Церкви различали в человеке дух, душу и тело, то отнюдь не в том смысле, будто дух и душа составляют особые самостоятельные части». Не в том смысле? Ой ли?
Мастерски защищая это свое утверждение, митрополит Макарий явным образом неудовлетворен сам используемыми методами защиты этого утверждения. В силу этой неудовлетворенности он начинает выделять различные группы авторитетов, настаивавших на том, что дух и душа — это разное. И разъяснять, что именно имела в виду каждая из этих групп.
Далее митрополит пишет: «Вообще надобно заметить, что хотя древние учителя и нередко упоминают о духе, душе и теле в человеке, однако же без строгой точности, не определяя, различают ли они душу и дух как две отдельные в нас части или только как две стороны одной и той же духовной природы; и если некоторые даже ясно высказывали мысль о трех частях в человеке, то высказывали ее в качестве частного мнения, которое сами же изменяли в других местах своих сочинений».
Развивая и далее аргументацию в пользу двухчастности состава человека (душа и тело и никакого отдельного духа), митрополит, наконец, доходит до уже обсуждавшихся нами аполлинаристов и пишет: «С тех пор, как явились аполлинаристы и манихеи, которые, между прочим, проповедовали трехчастность человека, допуская в нем две души, в Церкви начали еще яснее выражать учение, что человек состоит только из двух частей. «По учению Аполлинария, — пишет бл. Феодорит, — в человеке три составные части: тело, душа животная и душа разумная, которую он называет умом. Но божественное Писание признаёт только одну душу, а не две. Это ясно показывает история сотворения первого человека».
Обсуждая иаковитов, митрополит Макарий ссылается на Геннадия Масальского. Митрополит пишет: «Мы говорим, — свидетельствует также Геннадий в своем изложении церковных догматов, — будто в человеке две души, как пишут Иаков и другие совопросники сирские, одна душевная, которая одушевляет тело и смешана с кровью, а другая духовная, управляющая разумом. Но говорим, что только одна душа в человеке, которая и оживляет тело своим соединением с ним, и располагает сама собой по своему разуму, имея в себе свободную волю избирать мыслью, что захочет». И далее: «Дух не есть третья часть в составе человека, как думает Дидим; но дух есть сама же душа по ее духовной природе».
Дидим, о котором здесь говорится, — это Дидим Слепой — греческий христианский писатель, богослов, представитель александрийской богословской школы (родился около 312 года, умер в 398-м). Дидим яростно защищал учение Оригена. Он называл Оригена величайшим учителем Церкви после апостолов.
Ориген — выдающийся христианский теолог, философ и ученый (родился около 185 года, умер около 254-го). Ученик Климента Александрийского. Выступал сторонником идеи спасения всего сущего (апокатастасиса — смотри мою книгу «Исав и Иаков»). Умер мученической смертью. Его святая жизнь и мученическая кончина сделали его авторитетным. Доносы на последователей Оригена, переданные императору Юстиниану, породили осуждение Оригена как еретика. Вокруг Оригена и его последователей плелись сложные церковные и политические интриги. Ориген был осужден на Пятом Вселенском соборе. Его осуждение было подтверждено Шестым Вселенским собором. А на Лютеранском соборе 649 года все сочинения Оригена были преданы анафеме. Анафеме преданы и последователи Оригена, включая вышеназванного Дидима.
Однако труды Оригена не исчезают, его влияние чувствуется у Иоана Скота Эриугены, очень важной для христианства фигуры, ирландского средневекового богослова, крупнейшего мыслителя Каролингского возрождения (родился в 810 году, умер в 877-м).
Эриугена, конечно же, неоплатоник. Причем не просто неоплатоник, а философ, развивающий учение о нескольких началах или природах.
Согласно этому учению, первым началом является творящее нетварное начало. Это Бог. Причем, именно Бог-творец. То есть Бог, обращенный лицом к Творению. Это первое начало Эриугены очень близко к сверхбытийному единству неоплатоников.
Еще ближе к неоплатоникам второе эриугеновское — творящее тварное — начало. Это типичный платонический мир, состоящий из идей и парадигм. Бог, то есть первое начало, созерцает это второе начало. Оно весьма сходно с премудростью Божией.
Третье начало — нетворящее сотворенное — это мир и человек.
Некое финальное четвертое начало — оно же финальная причина (causa finalis) — завершает сложную модель Эриугены.
Согласно этой модели, творящий импульс передается от Бога телесному миру через мир идей или форм. А затем начинается процесс возврата. Телесный человек поэтапно возвращается к истоку.
Сначала вбирая тело в душу (процесс воскресения).
Потом вбирая душу в дух или разум.
Оттуда вобранное переходит в мир причин.
И, наконец, в темную бездну апофатического, то есть невыразимого и невыявленного божества.
Конечно же, вопрос о троичности (дух, душа, тело) или двоичности (душа и тело) тесно связан с отношением тех, кто этот вопрос решает, к греческой античности. И прежде всего — к Платону. Впрочем, и к Аристотелю тоже.
Труды Эриугены тоже были осуждены. Но не настолько свирепо, чтобы у него не было последователей. А в эпоху Возрождения всё осужденное стало особо востребовано.
И здесь мы можем перебросить мост, позволяющий, во-первых, вернуться, причем уже иначе понимая цену вопроса, к нашим исследованиям суфизма и ислама в целом, а во-вторых, в полной мере ощутить как связаны между собой различные пласты древних религиозных смыслов.
Анри Корбен — выдающийся французский философ и исламовед XX века (родился 14 апреля 1903 года, умер 7 октября 1978 года). Вот что он пишет в своей «Истории исламской философии» о связях между обсуждаемыми нами пластами древности.
«В 765 г. был основан Багдад. В 832 г. халиф Мамун основал «Дом мудрости» (Байт ал-хикма), руководство которого было поручено Йахйу ибн Масуйе (ум. 857), преемником которого был его ученик, знаменитый Хунайн ибн Исхак (809–873), выходец из арабского христианского племени ибад. Хунайн, несомненно, является наиболее знаменитым переводчиком греческих трудов на сирийский и арабский; необходимо упомянуть также имена его сына Исхака ибн Хунайна (ум. 910) и племянника Хубайша ибн ал-Хасана. Они создали настоящую мастерскую переводов, чаще всего с сирийского на арабский, много реже — на арабский непосредственно с греческого. Вся арабская философская и богословская терминология была выработана здесь в течение IX века. Не стоит забывать, что эти слова и концепты и в наши дни живут собственной жизнью в арабском языке».
Что, по сути, здесь сказано? Что мастерская переводов соединила ислам с греческой античностью. В том числе и в том, что касается соотношения духа и души. И если в христианстве те, кто настаивали на различиях между духом и душой, раньше или позже оказывались атакованы официальными церковными инстанциями, то в исламе, по крайней мере в обсуждаемый Корбеном период, всё обстояло мягче. И, соответственно, различия между духом и душой смогли быть обнажены в большей степени. Если приведенная мною выше цитата из Корбена не до конца убеждает читателя, то я продолжу цитирование и приведу совсем уж очевидный по своему содержанию корбеновский текст.
«Должны быть упомянуты и имена других переводчиков: Йахйа ибн Батрик (нач. IX века); Абд ал-Масих ибн Абд Аллах ибн Найма ал-Химси (т. е. из Эдессы, первая половина IX века), соратник философа ал-Кинди и переводчик «Софистики», «Физики» и «Теологии» Аристотеля; великий Куста ибн Лука (820–912), уроженец Баальбека, древнего сирийского Гелиополя, грек и христианин-мелькит».
Я убежден, что Корбен не зря сообщает читателю, что великий (да-да, именно великий, а не как-то иначе) Куста ибн Лука был уроженцем Гелиополя, который адресует не только к Сирии, но и к другой — египетской — древности. Но даже если это не так, упоминание Корбеном Кусты ибн Луки всё равно крайне существенно, потому что, перечисляя все переведенные этим великим Кустой античные труды, Корбен далее указывает, что существует очень важная работа самого этого великого Кусты ибн Луки. Она называется «О различии между духом и душой».
К этому мы еще вернемся. Что же касается Корбена и сообщаемых им — очень достоверных — сведений о сосуществовании определенных пластов древности, то Корбен идет достаточно далеко. Он упоминает о школе «сабеев Харрана», расположенных в окрестности Эдессы, о книге некоего псевдо-Маджрити, которая «изобилует сведениями об их астральной религии». О том, что эти сабеи, оплодотворившие, по мнению Корбена, эзотерическую исламскую традицию, «возводили свою духовную родословную к Гермесу и Агафодемону». Что «в их доктринах сочеталась древняя астральная религия халдеев, математические и астрономические штудии, неопифагорейские и неоплатонические духовные доктрины». А поскольку хорошо известны связи Пифагора и Платона, а также неопифагорейцев и неоплатоников с египетским храмовым жречеством, то мы просто видим воочию, как сплетаются и подпитывают друг друга пласты религиозных смыслов. А с учетом того, что чем более древним является смысл, тем более он авторитетен в конечном итоге, картина вырисовывается достаточно ясная.
Несколько слов о великом, по мнению Корбена (а этому мнению можно верить), Кусте ибн Луке.
Этот ученый-переводчик действительно написал свой собственный трактат «О различии между духом и душой». Трактат был переведен на латынь. На латыни это звучит так: «De differentia spiritus et animae». Этот трактат читался в Европе с большим интересом как минимум начиная с XIII века, а возможно и раньше.
Нельзя обсуждать этот трактат, не оговорив в какой мере повлияла на эзотерический ислам концепция Плотина.
Плотин (родился в египетском Ликополе между 204-м и 205 годами, умер в Римской империи в 270 году) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Он — ученик Аммония Саккаса, знаменитого нищего философа, воспитанного в христианской семье и отрекшегося от христианства после основательного знакомства с греческой философией. Аммоний Саккас был не только учителем Плотина, но и учителем Оригена, которого мы обсуждали выше. Стремился Аммоний к соединению идей Платона о нематериальной душе и идей Аристотеля о чистом космическом уме-перводвигателе. Такое соединение, как и любое соединение противоположностей (а Аристотель и Платон — это, конечно же, противоположности), обязательно обнажает чуть раньше или чуть позже то единственное, что соединяет такие противоположности — пустоту. Причем, имеется в виду не пустота как отсутствие смысла, а пустота как нечто метафизическое. Вспомним, что Мефистофель обещал Фаусту: «Не встретишь ты запоров пред собою, а весь объят ты будешь пустотою». Вспомнив, двинемся дальше.
В 242 году Плотин, сопровождая императора Гордиана III в персидском походе, познакомился с философией персов и, главное, индийцев. На следующий год он вернулся в Рим и основал собственную школу. Он даже попытался создать при покровительстве императора город философов, о котором мечтал Платон.
Фрагментарные записи Плотина были посмертно отредактированы, сгруппированы и изданы его учеником Порфирием. Порфирий разделил их на шесть отделов. А каждый отдел — на девять частей. Отсюда название 54 трактатов Плотина «Эннеады», то есть девятки.
А теперь вновь слово Анри Корбену: «Нужно подчеркнуть также значительное влияние апокрифов (имеется в виду влияние неких текстов на зарождающуюся арабскую исламскую эзотерическую мысль. — С. К.). Первое место здесь занимает знаменитая «Теология», приписывавшаяся Аристотелю и представляющая собой парафраз трех последних «Эннеад» Плотина, основанная на сирийской версии, восходящей к VI веку, эпохе неоплатонизма, процветавшего как в несторианской среде, так и при дворе Сасанидов (к этой эпохе относится корпус произведений, приписываемых Дионисию Ареопагиту). Это произведение, на котором базируется исламский неоплатонизм, объясняет желание многих исламских философов согласовать Аристотеля и Платона (то есть опереться на пустоту. — С. К.). Однако многие из них, начиная с Авиценны с его «Записками», содержащими замечательные разъяснения к «восточной философии», выражали сомнения в принадлежности этого произведения. В знаменитом пассаже из «Эннеад» (4:8:1) («Так случалось много раз: как бы восходя из собственного тела в самого себя») философы-мистики находили намек на небесное восхождение Странника, Одиночки. Эту «экстатическую молитву» из «Эннеад» Сухраварди приписывает самому Платону».
Итак, и Корбен, и многие другие убеждены в том, что религиозная эзотерическая и философская мысль в арабском халифате IX–X веков находилась под очень сильным неоплатоническим влиянием. В еще меньшей степени подавленном классической религиозностью, чем такое же влияние, оказываемое на христианскую мысль. Греки, как считают их почитатели в суфийском мире, сначала утонули в болоте скептицизма, стоицизма и прочего, а потом воскресли в неоплатонизме. Это воскрешение обеспечивали вышеупомянутые Саккас и Плотин, а также активно атаковавший христианство сириец Ямвлих. Завершил этот спасительный для греческого духа вираж афинянин Прокл.
Корбен сообщает нам, что основное влияние на интересующую нас мысль, породившую суфийские, да и не только, представления о духе и душе, сыграли «Эннеады» Плотина, которые были недописаны автором и должны были состоять из девяти книг, распадающихся каждая на девять глав.
Согласно Плотину есть нечто единое и неизреченное (Плотин говорит не о боге, а о первых неизреченных), которое нечто из себя изливает (эманирует). Эти эманации по мере удаления от первоисточника претерпевают такие же трансформации, как свет по мере удаления от своего источника. Плотин говорит о пяти ступенях эманации.
Первая ступень — само Единое.
Вторая ступень — дух.
Третья ступень — душа.
Четвертая ступень — материя как нечто целое.
Пятая — явления материального мира как нечто дробное.
По Плотину дух отображает единое. И потому он уже двойственен. То есть не так хорош, как единое. В дух заложено всё многообразие мира, который весьма далек от совершенства. Но дух содержит в себе это многообразие как бы в свернутом виде. И потому он весьма хорош, хотя и не так совершенен, как Единое.
Душа же относится к духу так же, как дух к Единому. То есть она резко более испорчена, нежели дух. В ней заложено и высшее, и низшее начало.
Ниже нее находится материя как царство тьмы, как отсутствие добра, как первозло. Сама по себе материя ужасна, а когда она еще дробится на явления, то превращается в нечто совсем чудовищное. Как спасаться от этой чудовищности — понятно. Нужно совершить обратный путь. Из материи — в душу. Из души — в дух. И из духа — в Единое.
Но душа тяготеет к материи. Она же, конечно, тяготеет и к духу, но ее тяготение к материи преобладает. Единственная возможность — сначала освободить душу от тела, а потом освободить дух от души. И после этого — устремиться в единое.
Связь такой концепции с гностицизмом очевидна. Возьмем учение одного из наиболее ярких гностиков — Валентина, умершего на Кипре около 160 года. Согласно Валентину, первоначальная божественная сущность — это праотец, он же — вечная бездна. Из нее проистекает мир идей. Этот мир, наполненный мудростью, тоскует по отцу. Но вопреки своей тоске (или благодаря ей) падает ниже и через посредство некоего демируга (злого бога, не имеющего никакого отношения к первоначальной божественной сущности) эта самая мудрость создает чувственный мир. Человек, как считают и гностики и неоплатоники, не двоичен, а троичен. Он состоит из трех частей — материи, или тела, души как того, что тяготеет и к телу, и к духу, и самого духа. Внимательное прочтение даже тех цитат из Корбена, которые я привел, показывает, что всё это было вобрано в эзотерический ислам даже более мощно, чем в эзотерическое христианство. Где такому вбиранию были поставлены некие преграды. Я не хочу сказать, что в исламе их вообще поставлено не было. И я тем более не хочу демонизировать суфизм, который вполне может быть нашим союзником в нынешней опаснейшей мировой ситуации. Я никого не демонизирую, я не занимаюсь восхвалениями и проклятиями. Я просто двигаюсь в определенном направлении. Будучи твердо уверенным в том, что это мое движение имеет отнюдь не только высоколобый смысл. Вскоре читатель убедится в этом.
(Продолжение следует.)