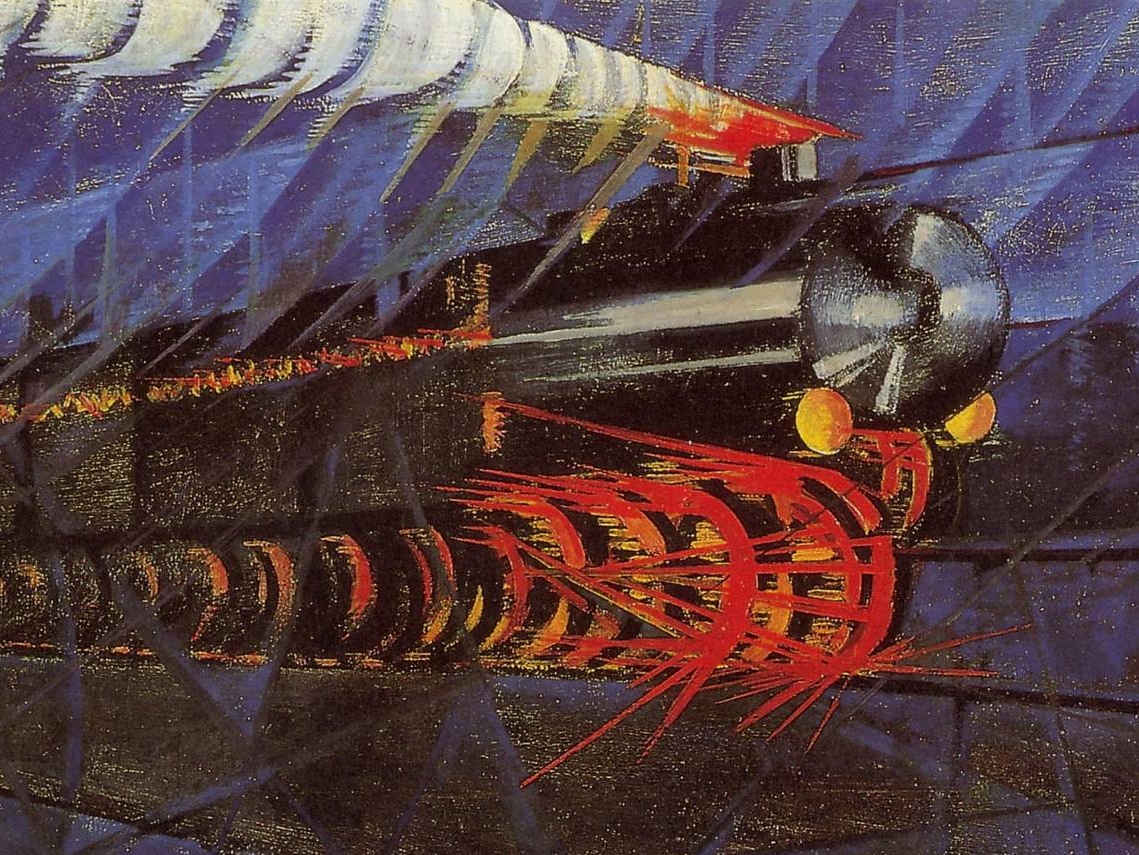Судьба гуманизма в XXI столетии
Нойманн пишет: «Забой вепря — древнейший известный нам символ умерщвления сына-любовника Великой Матери. Здесь богиня плодородия выступает свиньей, и это в равной мере верно и в отношении Исиды, а позднее и в отношении элевсинской Деметры».
Автор этих строк никоим образом не собирается проводить параллели между тем, что представляет предмет его непосредственного интереса, и гётевским «Фаустом». Но нам, идущим по весьма запутанным следам в густом тумане архаических метафизических хитросплетений, трудно не ухватиться за ту тонкую и, конечно же, проблематичную нить, которая связывает этот образ архаической черно-матриархальной свиньи-Деметры, свиньи — Великой Матери с главной ведьмой Баубо из первой части «Фауста». Выше я уже привел ту строчку из «Фауста», в которой эта ведьма предстает всадницей, скачущей на супоросой хрюшке. Сейчас предлагаю читателю внимательнее вчитаться в то, что сообщается нам по данному поводу в первой части «Фауста», иногда именуемой «немецкой». Со старухой Баубо мы встречаемся в 21-й сцене первой части «Фауста». Сцена эта называется «Вальпургиева ночь». Напоминаю, во второй части «Фауста» тоже будет некая «Вальпургиева ночь», которая в отличие от первой «Вальпургиевой ночи» именуется «классической». В каком смысле «классической»? В том смысле, что эта вторая «Вальпургиева ночь», являясь, как и первая, бесовским действом, то есть шабашем, творится в отличие от первой в античной Греции, которую именовали и именуют классической.
Первая «Вальпургиева ночь», она же — «Шабаш на Брокене», — это бесовское действо, творящееся на конкретной немецкой территории. Гёте определяет, на какой именно. Он сообщает нам, что этот немецкий шабаш творится в некоей местности, которая расположена в горах Гарца.
Гарц или Харц — это самые высокие горы Северной Германии. Они расположены на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия. Гора Брокен, на которой творится немецкий шабаш, описанный Гёте в первой части «Фауста», поднимается на 1141 метр над уровнем моря. Это наивысшая точка Гарца.
Гёте даже еще более конкретно задает место первой, немецкой «Вальпургиевой ночи». Он говорит, что бесовское действо, именуемое «Вальпургиева ночь», творится в данном случае в окрестностях деревень Ширке и Эленд. Так что в случае немецкой «Вальпургиевой ночи» Гёте предельно конкретен. Тут всё очевидно в целом и достаточно примечательно в том, что касается неких частностей. Например, того, как именно войска СС в мае 1945 года обороняли укрепрайон Гарца, исполняя приказ своего вождя и главы «Черного ордена» Генриха Гиммлера. Но для того, чтобы не растекаться мыслию по древу, придется отказаться от ознакомления читателя с поразительно богатой историей Вальпургиевой ночи и свести всю информацию о ней к короткому и емкому сообщению, содержащемуся в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Это сообщение я привожу дословно: «Вальпургиева ночь — с 30 апреля на 1 мая, по германскому народному поверью, служит годичным праздником ведьм, собирающихся в эту ночь вокруг своего повелителя-сатаны — на высокой, недоступной горе Броккен, где и справляют свой «шабаш». Поверье это, выведенное также Гёте в 1-й части «Фауста», сложилось около конца VIII столетия, вероятно, таким же образом, как возникла и распространилась вера в колдуний и ведьм вообще: так как 1 мая с особой торжественностью праздновалось язычниками (первый весенний праздник), то старые женщины и вообще все те, которые не могли сразу отказаться от языческих обрядов в пользу христианства, несмотря на строгое запрещение (под страхом смертной казни), продолжали собираться в недоступных местах, чтобы подобающим образом, т. е. песнями и плясками, встретить 1 мая. Обстановка (костры, дикая местность), а может быть, и преднамеренно распускаемые этими тайными язычниками слухи (чтобы избавиться от лишних свидетелей), способствовали распространению в народе рассказов о ведьмах, собирающихся в эту ночь в различных недоступных местах. Название же произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти св. Вальпургии, сестры св. Вилибальда, канонизованной в 778 г.»
Итак, в первой части «Фауста» описана эта «Вальпургиева ночь» — немецкая, вульгарно-бесовская, донельзя определенная. О том, какое именно отношение она имеет к весне и всему, что с весною связано, говорится в «Фаусте» напрямую.
Мефистофель спрашивает Фауста о том, не чувствует ли тот нужду в помеле. Мол сам он, Мефистофель, хотел бы приехать на шабаш на козле, поскольку ходьба пешком его утомляет.
Фауст говорит Мефистофелю, что его ходьба пешком не утомляет, и сообщает, почему именно.
Фауст
В самой прогулке радость ходоку.
Я для того пошел пешком по скалам
И в руки взял дорожную клюку,
Чтобы внимать лавинам и обвалам.
Уж дышит по-весеннему береза,
И даже веселее ель глядит.
Ужель весна тебя не молодит?
Мефистофель
Нет, у меня в душе стоят морозы,
Но я люблю и стужу и буран.
Так что наличие связи между первым днем весны и сатаническим шабашем, происходящим в этот же день, не столь очевидно, как это кажется автору статьи в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, ссылающемуся, как мы только что убедились, на первую часть «Фауста».
Тем, кто творит шабаш, нужна зима, ибо она царит в их душах. Установив это, вчитываемся в другие существенные детали.
Фауст
Но скажите мне по чести,
Не стоим ли мы на месте?
Может, всё, что есть в природе,
Закружившись в хороводе,
Мчится, пролетая мимо,
Мы же сами недвижимы?
Итак, нет не только весны, знаменующей собой пробуждение жизни, но и настоящего движения, без которого живая жизнь невозможна. Есть только вращение на месте.
Во-первых, важно, что на месте.
А во-вторых, важно, что вращение.
Нацистская свастика как раз и знаменует собой нечто подобное. Поступательного движения нет, да оно и не нужно, и невозможно. Ибо оно характерно для Истории, которая враждебна обитателям и обитательницам Брокена. А вот вращение есть. Причем, конечно же, не по часовой стрелке, а в обратную сторону. Такова стихия бесовского шабаша, он же — карнавал. О связи между карнавалом и этим шабашем Мефистофель говорит напрямую.
Мефистофель
На курганы лег туман,
Завывает ураган.
Гул и гомон карнавала
Распугал сычей и сов.
Ветер, главный запевала,
Не щадит красы лесов.
И расселины полны
Ворохами бурелома
И обломками сосны,
Как развалинами дома,
Сброшенного с крутизны.
И всё ближе, ближе вой,
Улюлюканье и пенье
Страшного столпотворенья,
Мчащегося в отдаленьи
На свой шабаш годовой.
Пусть Бахтин лживо рассуждает о благотворности праздничного оздоровительного хаоса, обновляющего мир. Гётевский Мефистофель более правдив и определенен в том, что касается гула и гомона карнавала, знаменующего собой страшное столпотворение хаоса. Вслушаемся в голоса этого, пока еще относительно тривиального немецко-бесовского хаоса.
Ведьмы (хором)
На Брокен ведьмы тянут в ряд.
Овес взошел, ячмень не сжат.
Там Уриан, князь мракобесья,
Красуется у поднебесья.
По воздуху летит отряд,
Козлы и всадницы смердят.
Голос
Старуха Баубо мчит к верхушке
Верхом на супоросой хрюшке.
Хор
Колдунье и свинье почет.
Вперед за бабкою, вперед!
Всей кавалькадой верховых,
Чертовок, ведьм и лешачих!
Итак, мы ознакомились с более развернутым текстом о старухе Баубо, колдунье, возглавляющей кавалькаду чертовок, ведьм и лешачих. Но имеет смысл пообсуждать эту самую Баубо чуть-чуть подробнее.
Баубо — это некая древнегреческая, отнюдь не олимпийская богиня непристойности. Про таких говорится: «Она говорит из того места, что между ног». У нее есть более старые имена, чем Баубо. Ну, например, Ямба и так далее. В любом случае, это, конечно же, Великая Мать в ее темном обличии. Эту Великую Мать изводили несколько поколений приходящих ей на смену богов. Но следы ее остаются. В греческих преданиях эта самая Баубо развеселила богиню Деметру, которая страдала по поводу исчезновения своей дочери Персефоны. Баубо стала плясать перед Деметрой, которая была раздавлена горем. И в этом своем раздавленном состоянии прокляла природу, которая стала увядать. Подойдя к измученной Деметре, Баубо сумела пляской развеселить ее. Она виляла бедрами, трясла грудями, всеми своими движениями намекая на половую непристойность. Глядя на это, Деметра невольно улыбнулась. На самом деле, Баубо не была вполне женщиной. Вместо глаз у нее были соски, вместо рта — влагалище. Она стала извергать на Деметру смешные непристойности из этого рта-влагалища. И Деметра стала смеяться всё больше и больше. Она получила силы для дальнейшего поиска Персефоны. Нашла ее. И закрепила некий тип бытия в дарованных избранным элевсинских мистериях.
Итак, Гёте дает главной немецкой ведьме, едущей на сатанинский шабаш, имя Баубо, которое уже адресует к темной, более древней, нежели деметрианская великая материнская религиозность, матриархатной религиозной темной стихии. Гёте ищет корни темной, волнующей его немецкой сатаничности в еще более темной древнегреческой доолимпийской сатаничности. Поэтому супоросая хрюшка Нойманна и супоросая хрюшка «Фауста» — это не «в огороде бузина, а в Киеве дядька», это буквально одно и то же. Уже немецкая брокенская сатаничность пахнет сатаничностью наидревнейшей Греции. А уж чем это пахнет — что называется, «особая статья». Для того, чтобы распознать этот запах, мы и отправились в свой исследовательский почти безнадежный и уж по крайней мере до предела извилистый и запутанный путь.
А вот еще одна деталь из «Фауста», заслуживающая нашего внимания. Мефистофель знакомит Фауста со всё новыми и новыми персонажами шабаша. Фауст вяло знакомится — но вдруг один из персонажей привлекает его внимание. И наше тоже.
Фауст
Кто там?
Мефистофель
Лилит.
Фауст
На мой вопрос,
Пожалуйста, ответь мне прямо.
Кто?
Мефистофель
Первая жена Адама.
Весь туалет ее из кос.
Остерегись ее волос:
Она не одного подростка
Сгубила этою прической.
Далее возникают другие греческие персонажи, на первый взгляд, совершенно лишние в этой очень немецкой по своему духу сцене. Но Гёте и в этой сцене не может обойтись без Лилит и... Горгоны...
Мефистофель
Зачем смотреть на тот курган?
Ведь это призрак, истукан
Из тех видений и иллюзий,
Вблизи которых стынет кровь.
Пожалуйста, не прекословь.
Небось ты слышал о Медузе?
Фауст видит в Медузе свою любимую Гретхен, которой отсекли голову. Но Мефистофель, утешая его, говорит, что это все-таки Медуза с ее волшебными перевоплощениями.
Мефистофель
Тут колдовской обычный трюк: Все видят в ней своих подруг.
Фауст вновь терзается по поводу явленной ему Гретхен, которой по его вине срубят голову. Мефистофель утешает Фауста.
Мефистофель
Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей Брать иногда ее под мышку.
Далее Мефистофель укоряет Фауста в том, что он растравляет боль... Начинается театральное представление, именуемое «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании».
Оберон — это герой средневекового западноевропейского фольклора. Он — король фей и эльфов. Сказания об Обероне различны. В одном из них фигурирует некая Брюнехальта — или Брунгильда — дева-богатырша, валькирия. О ней существуют очень разные повествования. Только по одному из них это Брюнехальта похищена в семилетнем возрасте неким чудесным оленем и становится волшебницей. Она рождает Юлия Цезаря, которого женят на Моргане — сестре короля Артура. От брака Цезаря и Моргана рождаются Оберон и Георгий. Оберон, достигнув семи лет, перестает расти. Он наделен даром волшебства.
Это только один из вариантов предания. Вариантов очень много. Немаловажно и то, что Оберон является не только персонажем гётевского «Фауста». Он еще и персонаж очень непростой комедии Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Кстати, называя свою театральную вставку в шабаш на Брокене «Сон в Вальпургиеву ночь», Гёте сознательно организует перекличку между своим повествованием об Обероне и шекспировским «Сном в летнюю ночь», где тоже фигурирует Оберон. Это достаточно очевидное обстоятельство обсуждается редко.
Титания — еще более интересный персонаж. Это жена Оберона, которой тот часто изменяет. Но это имя — Титания — Шекспир заимствовал у своего любимого поэта Овидия.
Овидий повествует о том, как отец Европы приказывает своему сыну Кадму искать похищенную Зевсом Европу. Как Кадм находит Европу. Как приветствует ту местность, в которой она была найдена. Как, готовясь принести благодарную жертву Юпитеру, посылает своих спутников-финикийцев искать воду, необходимую для осуществления правильного жертвоприношения. Как финикийцы в поисках воды натыкаются на пещеру, в которой их подстерегает страшный змей, иссиня-черный дракон. Как этот змей убивает финикийцев. Как Кадм вступает в сражение с этим змеем, защищенным чешуей, как кольчугой. Как Кадм вонзает дротик в змея. Как Кадм, «сын Агеноров», он же — Агенорид, вонзает лезвие в глотку змея, поразив одновременно и этого змея, и дуб, преграждавший змею дорогу. Как после совершения всего этого Кадму какой-то чудный голос сказал, что, созерцая убитого змея, Кадм не понимает, что вскоре сам станет змеем. Как ужас овладел Кадмом после такого чудесного и зловещего пророчества. Как на помощь Кадму пришла Афина.
Тут, пожалуй, нужно не пересказывать Овидия, а привести цитату:
Вот соскользнула, к нему попечительна, с высей воздушных
Дева Паллада; велит положить в разрыхленную землю
Зубы змеиные — сев грядущих людских поколений.
Он же борозды вскрыл, послушный, на плуг налегая,
Всыпал, как велено, в них человечьи зародыши — зубы.
Вскоре, — поверить нельзя! — вдруг стали двигаться комья,
Из борозды острие копья показалось сначала,
Вскоре прикрытья голов, колебля раскрашенный конус,
Плечи и груди потом, оружье несущие руки
Вдруг возникают, — растет мужей щитоносное племя!
В праздник, в театре, когда опускается занавес, так же
Изображенья встают; сначала покажутся лица,
А постепенно и стан; вот явлены плавным движеньем,
Видны уже целиком и ногами на край наступают.
Кадм хватается за оружие, видя это войско. Его предупреждают, что не надо вмешиваться в гражданскую войну. Вставшие из-под земли воины истребляют друг друга, пока наконец один из них не призывает к миру, вняв совету Афины Паллады. Тогда Кадм, которого Овидий называет «сидонским пришельцем», то есть человеком, пришедшем на греческую землю из финикийского города Сидон (Тир и Сидон — главные города Финикии), возводит город и, казалось бы, Кадм может быть счастлив. Но не тут-то было. Овидий повествует о некоем событии, в силу которого счастье Кадма прекратилось, событии, произошедшем на «горе, зверей оскверненной убийством». Овидий говорит о том, что «был там дол, что сосной и острым порос кипарисом». Что этот дол был рощей Дианы, то есть Артемиды. Что в роще Артемида «возвела свой свод первозданный». Что Артемида отдыхала в этом своде.
И тут опять необходимо процитировать Овидия, повествующего о том, как она отдыхала:
Только в пещеру пришла, одной отдала она нимфе —
Оруженосице — дрот и колчан с ненатянутым луком;
Руки другая из них подставила снятой одежде,
Две разували ее; а, всех искусней, Крокала,
Дочь Исмена-реки, ей волосы, павшие вольно,
Вновь собирала узлом, — хоть сама волоса распустила.
Черпают воду меж тем Нефела, Гиала, Ранида,
Псека, Фиала и льют в большие и емкие урны.
Стала себя обливать привычной Титания влагой.
Стоп! Итак, у Овидия Титания — это Артемида или Диана. Шекспир, заимствовавший у Овидия имя Титания, дал это имя жене Оберона. Вскоре читатель поймет, почему я так подробно это всё описываю. Вначале все-таки я доведу цитирование Овидия до некоторого промежуточного результата. Артемида, она же — Диана, поливала себя водой и надо же... Но даю слово Овидию:
Кадма же внук между тем, труды вполовину покончив,
Шагом бесцельным бредя по ему незнакомой дубраве,
В кущу богини пришел: так судьбы его направляли.
Только вошел он под свод орошенной ручьями пещеры...
Прерываю цитирование для краткости и сообщаю читателю, что внуку Кадма по воле судьбы пришлось лицезреть не только нагих нимф, но и нагую Диану. Диана плеснула на кудри внука Кадма водой. У внука Кадма выросли рога... Короче, Диана в наказание за лицезрение своего нагого тела превратила внука Кадма в оленя. Далее начинаются приключения с этим оленем. Но их я уже описывать не буду.
Повторяю, чуть позже станет ясно, почему столь подробное разбирательство овидиевского описания произошедшего с Кадмом и его семьей заслуживает отдельного внимания. Пока же достаточно и того, что Шекспир назвал Титанию, ориентируясь на Овидия, а Гёте заимствовал это имя, ориентируясь на Шекспира. И что в конечном счете, хотя Титания — это всего лишь жена Оберона, но она же в греческой и римской мифологии — дочь Титана. И понятно, кого именно так называют. Очень непростую греческую богиню Артемиду, она же — римская Диана.
У Шекспира выяснения отношений между Обероном и Титанией, основанные на колдовстве Оберона, оборачиваются крупными природными неприятностями и унижением Титании. Оберон, стыдясь своих чар, освобождает от них свою жену. И всё случившееся предлагает считать просто дурным сном. Природа возвращается к утраченной гармонии.
У Гёте всё совсем по-другому.
На свадьбе Оберона и Титании пляшут всевозможные бесы. Бесовским характером наделена и сама Титания. Присутствуют какие-то странные персонажи типа несложившегося духа, заявляющего, что он гибрид из двух гадов, сшитый на живую нитку. Один из наблюдающих всё это героев, именуемый Северным художником, обещает, что он когда-нибудь, побывав в Риме, нарисует нечто не такими скупыми красками, какими он рисует сейчас происходящее в немецкую Вальпургиеву ночь. Тут Гёте явно говорит о себе, а заодно и о второй части своего «Фауста», а значит, и о второй «Вальпургиевой ночи», изображенной во второй части «Фауста», а эта ночь уже совсем не немецкая. Но перед тем как перейти к ней, нужно зафиксировать еще кое-какие детали происходящего в рамках первой, немецкой, простодушно-грубовато-однозначно бесовской Вальпургиевой ночи.
Тут и очень откровенные признания («Лязгом ножниц на ремне Дайте насекомым Туш исполнить сатане И его знакомым»), и нечто более серьезное («И у немцев есть ступень Высшего паренья; Это брокенская сень На заре весенней»).
Правда, такой вердикт изрекает бывший гений своего времени, и можно сказать, что Гёте тут иронизирует. Но на самом деле поэт балансирует над бездной, играет на грани фола. Нацистским гётефилам Гёте нравится, в том числе, и за это.
В любом случае, никаких умильных игр в духе эльфов данный «Сон в Вальпургиеву ночь», в отличие от «Сна в летнюю ночь», не содержит. Некий скрипач, например, комментируя происходящее, говорит
Если бы волынщик смолк,
Каждый этой ночью
Здесь друг друга бы, как волк,
Разорвал на клочья.
По большому счету, Вальпургиева ночь на Брокене кончается ничем. Явно бесовские сущности, наплясавшись вдоволь, отступили. О чем прямо и говорит завершающий эту ночь оркестр:
Оркестр (pianissimo)
Прояснился небосклон,
Тени отступили,
Мгла рассеялась, как сон,
Разлетелась пылью.
Следующая сцена называется «Пасмурный день». Фауст страдает по поводу того, что его возлюбленная Гретхен оказалась в тюрьме. Страдая, он призывает какой-то вездесущий дух (заметьте, не Бога, а вездесущий дух) вернуть Мефистофеля, которого он называет страшилищем, в его прежнюю собачью оболочку. От того, что происходило на Брокене, не остается и следа. Кстати, Фауст отнюдь не походя апеллирует к некоему вездесущему духу: «Неизъяснимо высокий дух, однажды явившийся мне, — восклицает Фауст, — зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?»
Поскольку все духи, которые являются Фаусту в начале, известны, то духом, к которому Фауст обращается, умоляя этот дух покарать Мефистофеля, является дух Земли, пришествия которого Фауст не выдержал. Но для нас сейчас намного важнее, что огромная сцена с шабашем на Брокене вообще не оставила следа в душе Фауста. Зафиксировав это, предлагаю читателю сначала присмотреться к такому же шабашу во второй части «Фауста». А затем обещаю перебросить мост между цитируемым мною Овидием и проблемой содержания гётеанского матриархата, так или иначе соотносящегося с матриархатом нацистским, черным, тем самым, о котором развернуто повествует Нойманн.
«Классическая Вальпургиева ночь» — так называет Гёте шабаш из второй части, который, в отличие от шабаша из первой части, является как бы антично-греческим и в этом смысле классическим. Все исследователи творчества Гёте пытались так или иначе объяснить, почему классических олимпийских богов в этой Вальпургиевой ночи нет. По мне, так они ломились в открытую дверь, потому что если эта ночь является шабашем, то на шабаше нет места светлым олимпийским богам. На шабаше есть место только тем сущностям, которые обитают во тьме. И об этом Гёте нам сообщает уже в подзаголовке своей «Классической Вальпургиевой ночи». В самом деле, в подзаголовке сказано: «Фарсальские поля. Тьма». Тьма... Круче, чем в первой части, не правда ли? Брокенский немецкий бесовский шабаш все-таки посветлее того, который Гёте описывает как шабаш антично-классический.
(Продолжение следует.)