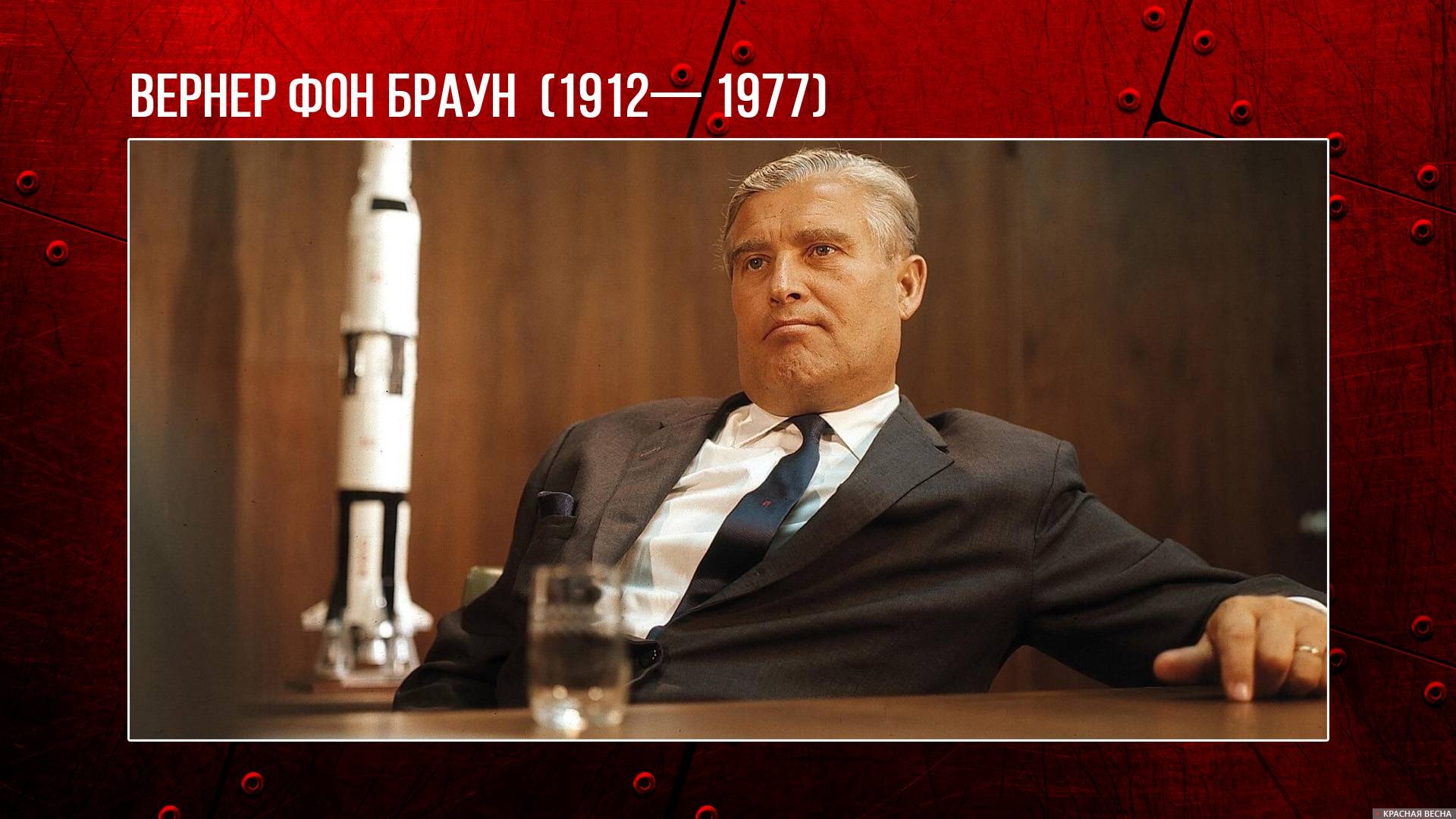Театр Кургиняна: шаг вперёд и поворот
В соответствии с боевой парадигмой движения «Суть времени», обычно в этой рубрике мы пишем о плохом (такова уж нынче культурная жизнь в России). Но сегодня хочется сказать о хорошем. Потому что 14 ноября у Сергея Ервандовича Кургиняна был день рождения. И где-то даже юбилей. А Сергей Ервандович Кургинян, помимо прочего, всем известного, — замечательный театральный режиссер. Без всяких шуток — светоч в темном царстве нашей малокультурной жизни. И мы хотим поздравить его именно как (нашего любимого) режиссера, опубликовав недавно написанную статью.
Что же делать? Остается мне Вышвырнуть жокея моего И скакать, как будто в табуне, Под седлом, в узде, но без него!
В. С. Высоцкий
Обычно они объяснялись на взятом взаймы языке. Теперь впервые, сами того не сознавая, они говорили каждый на своем.
Эрих Мария Ремарк
Сергей Ервандович Кургинян говорит, что возвращение к модерну невозможно.
Сергей Ервандович Кургинян говорит, что эпоху постмодерна может сменить только эпоха сверхмодерна.
Сергей Ервандович Кургинян говорит, что иначе неизбежен переход к контрмодерну.
Сергей Ервандович Кургинян знает, о чем говорит!
Так любовь, диалектически связанная с постлюбовью (часто переживающаяся как ненависть или потеря), может переродиться только во что-то принципиально новое — в сверхлюбовь.
Но вот как понимать этот самый сверхмодерн? Чем он может оказаться?
Кургинян отвечает на это своими мистериями. А говорить о его мистериях, символизировать их хочется через обращение к танцу или живописи. Иначе говоря — хочется отказаться от всякой символизации и оказаться в пространстве воображаемого. Это «хочется» закономерно, а неприемлемым компромиссом оказывается обращение к песне, танцам посвященной. К старой шутливой песенке «Школа танцев Соломона Кляра». К той самой, в которой звучат важнейшие для анализа культуры через диалектику слова: «Две шаги налево, Две шаги направо, Шаг вперёд и поворот».
Направленность диалектического развития не может быть выявлена в его актуальной траектории. Отрицанием отрицания описываются круги вокруг лишь предполагаемого смещающегося куда-то центра. Каждый отделенный от ряда предыдущих переход кажется спонтанной игрой случая (точнее — стечением множества причин), лишенной внешнего смысла и цели. Так и постоянство Сергея Ервандовича и его великолепной труппы в обращении к политологическим мистериям может быть понято через множество различных понимательных систем. Но только понимание этого постоянства как очередного такта диалектического развития мировой культуры придает ему смысл. Во всяком случае, тот смысл, который слышится в речах Кургиняна. А он знает, о чем говорит!
Переход от одного объекта к следующему за ним другому оказывается тактом диалектического (а не иллюзорного поступательного) развития только за счет суммы элементов движения: «шаг вперёд» и «поворот». Только их обобщенные свойства позволяют говорить о новизне или авангарде. Именно эти свойства удается обнаружить в действах, свершающихся в театре «На досках». Именно эти свойства заставляют лгать, изрекая «это и есть сверхмодерн».
Для маневра «шаг вперёд», необходимо как минимум стоять где-то и знать, где перёд находится. В песне сказано ясно: «Там, где бантик, там перёд». Но в культуре всё немного сложнее... В XXI веке мы танцуем постмодернистский танец теней. Как бы ни хотелось, но ностальгировать о модерне можно лишь в рамках постмодерна — он видится нам сквозь лупу современности лишь как очередной призрак, всего лишь как удачная цитата в наборе. Тут мы стоим. Отсюда шагать. А значит, произведения Кургиняна, оказываясь в результате сверхмодерном, должны быть для начала постмодерном. Как «Евгений Онегин» и «Шинель», (из) вращая романтизм до реализма, остаются романтическими произведениями в своей основе, так и «Я!» взращивает свой сверхмодерн на осколках вполне обычного постмодерна.
Только все типично-привычные элементы постмодерна сдвинуты тут вперёд и повернуты боком. Например: можно понимать постмодерн как защиту культуры и автора от психоаналитического дискурса. «Я не позволю судить о себе, у меня вообще нет своего текста: одни цитаты и ссылки, — молча заявляет автор-постмодернист. — Читатель — источник трактовок, а я, автор, — лишь компоновщик текста». Сергея Ервандовича не смущают возможные трактовки, он, выстраивая свои мистерии по всем законам постмодерна, не только вводит туда автора как действующего персонажа, но и публично выступает сам перед началом и после завершения каждого представления, возводя авторство в степень и тем самым расширяя сцену до жизни. И не зря, ведь Сергей Ервандович знает, о чем говорит!
Привнося себя лично в представление, режиссер разрушает все возможные рамки и границы. Если еще текст, игру актеров или сценографию можно было бы постараться разложить на конечное количество элементов, отсылок или цитат, то нужно обладать недюжинной (граничащей с глупостью) самоуверенностью, чтобы проделывать такое с живым Кургиняном. А ведь он еще и регулярно сообщает об уникальности актеров своей труппы как результате сверхмотивированной осмысленности, в чем каждый желающий может убедиться, открыв хотя бы подшивку газеты «Суть времени». Кстати, в имеющееся у нас в наличии время авторство тоже вполне может оказываться элементом художественного произведения, чему Уорхол и Дали — классические примеры, тут (казалось бы) нет ничего нового... Но и тут Сергей Ервандович уходит вперёд с поворотом: в его случае авторство не самоцель, а лишь инструмент выстраивания «сверхмодерна».
Перёд в случае кургиняновского сверхмодерна находится в наполненности произведений смыслом. Где автор-модернист выкладывает трактовку на самое видное место и ювелирно проводит по ней всё произведение, как по струнке смысла, где автор-постмодернист робко прячет трактовку в утесах чужого текста или обрывках сюжета, там в мистериях театра «На досках» смысла и трактовок столько, что у зрителя последовательно случаются «переполнение массива», «отъезд крыши» и «взрыв мозга». В это очень сложно поверить. Да и не нужно. Но на сцене театра буквально разыгрывается палимпсест.
В водопаде смыслов и трактовок необходимым условием выплывания кажется не только доскональное знание произведения, номинально являющегося прообразом мистерии, чтобы четко понимать, где кончается, например, Лондон и начинается Кургинян, не только глубокое (до полного погружения) знакомство с культурно-историческим контекстом мистерии, не только поверхностное (до досконального) прочтение политических текстов и просматривание выступлений Кургиняна, не только углубленное знакомство с различными ведениями и логиями, не только личное знакомство с величайшими (вплоть до никем не замеченных) произведениями мирового art`а. Но (не исключая всё перечисленное), в первую очередь, способность жить и сталкиваться с реальным. Мистерии Кургиняна совершенно реальны, то есть крайне травматичны, невыносимы, непристойны.
Но сверхмодерн бы не состоялся, не будь в нем еще и «поворота». (В конце концов, палимпсест сам по себе вполне вписывается в постмодерн, и даже им любим). Впрочем, и «поворот» без «шага вперёд» тоже погоды не делает. Поворот заключен в форме представления: называя действие, разворачивающееся в театре «На досках», «мистерией», Кургинян знает, что говорит!
Он не шутит, это именно мистерия, от греческого mysterion — таинство. Жанр, через театрализацию христианских тайн восходящий к обрядам еще дионисийским, с которых всякий театр и начался. И понимать его следует через Ницше и его «Рождение трагедии из духа музыки». Когда-то это произведение призвано было убить театр вообще и критику в частности, а вместе с ними и проекты мирового западного искусства и такой же цивилизации. И с задачей своей оно успешно справилось. Театр мертв. Критика издыхает. Искусство в целом и цивилизация на подходе. Ницше считал, что ошибка (отказ от трагедии) в пользу «сократического» оптимизма произошла в Греции в рамках ее культуры, но исправлять эту ошибку предлагал в рамках культуры, ему современной. Кургинян же, вступая в титанический спор с неодолимым Фридрихом, выставляет на доску не аргументы, а мистерии. Живые, истинно трагические дионисийско-аполлонические мистерии, наглядно демонстрируя неизбежность (и одновременно являясь камнем в основании) перезапуска оптимистического проекта.
Мистериями же действия театра «На досках» оказываются из-за беспрецедентного разворота к «зрителю»1. Всё, что происходит на сцене и в холле театра, направлено и посвящено всего одной цели — простроить пространство «сверхмодерна», в котором столкновение с реальным возможно для каждого Желающего. Мистическим содержанием оказывается не доступ к условно объективному знанию, доступному немногим (как в мистерии классической), а столкновение с истиной глубинной неопознанности (несимволизированности и невоображенности), то есть реальности себя и, как следствие, — мира.
Итак, чтобы оказаться сверхмодерном на сцене, диалектически отрицая всяческий постмодерн, Сергей Ервандович возвращает базовые, но уже очевидно несостоятельные элементы модерна — волю и знание, но с чем-то еще. Это «что-то» и обеспечивает легитимность наличия и приставки сверх-, и окончания модерн в этом новом-старом проекте. Именно этого «чего-то» и не хватает всегда воле и знанию, чтобы оказаться состоятельными в полной мере.
Вот такие вот бывают танцы, когда говорит Кургинян!
1 Неизбежно столкновение с недостаточностью грамматического аппарата русского языка. «Зритель» — слово, явно к ситуации не подходящее: зритель зрит, то есть участвует в процессе опосредованно. Насущная необходимость в слове, возводящем непосредственный труд в основание наименования, заставляет, по примеру устоявшегося в психоанализе франконизма «анализант» (где суффикс «ант» призван возвестить об активности), предлагать ужасающие конструкции типа «зрителянт» или «скопилянт».