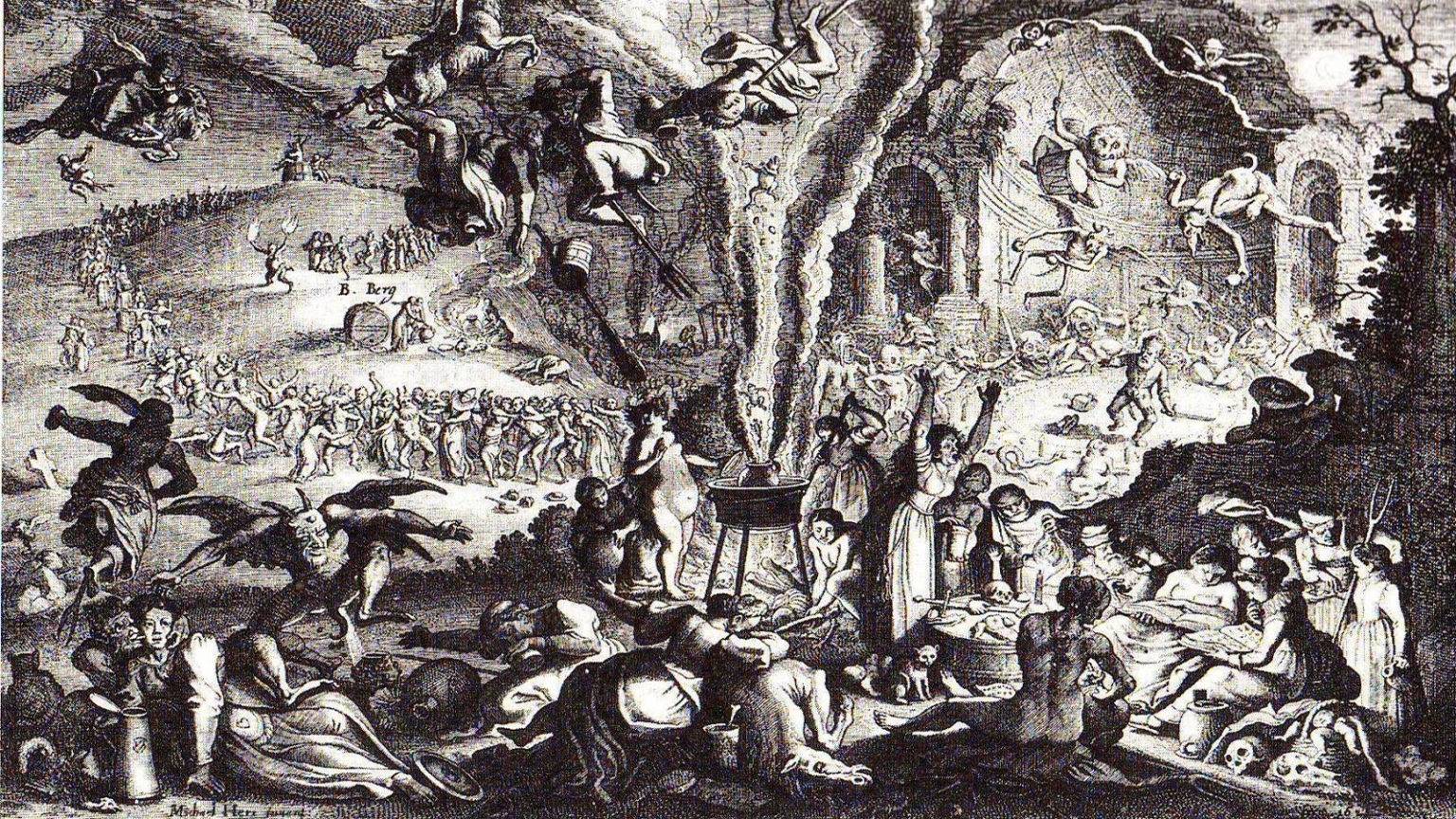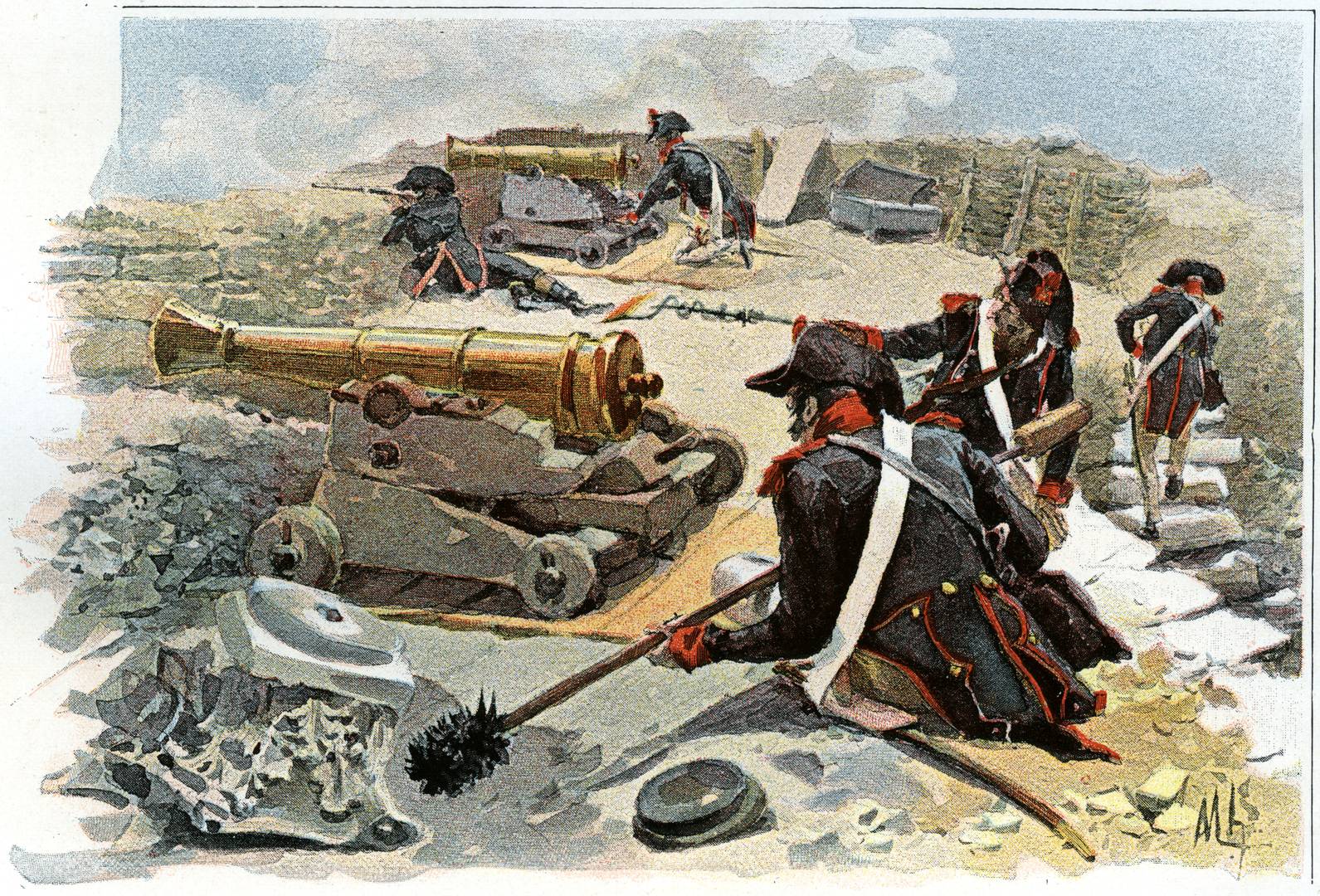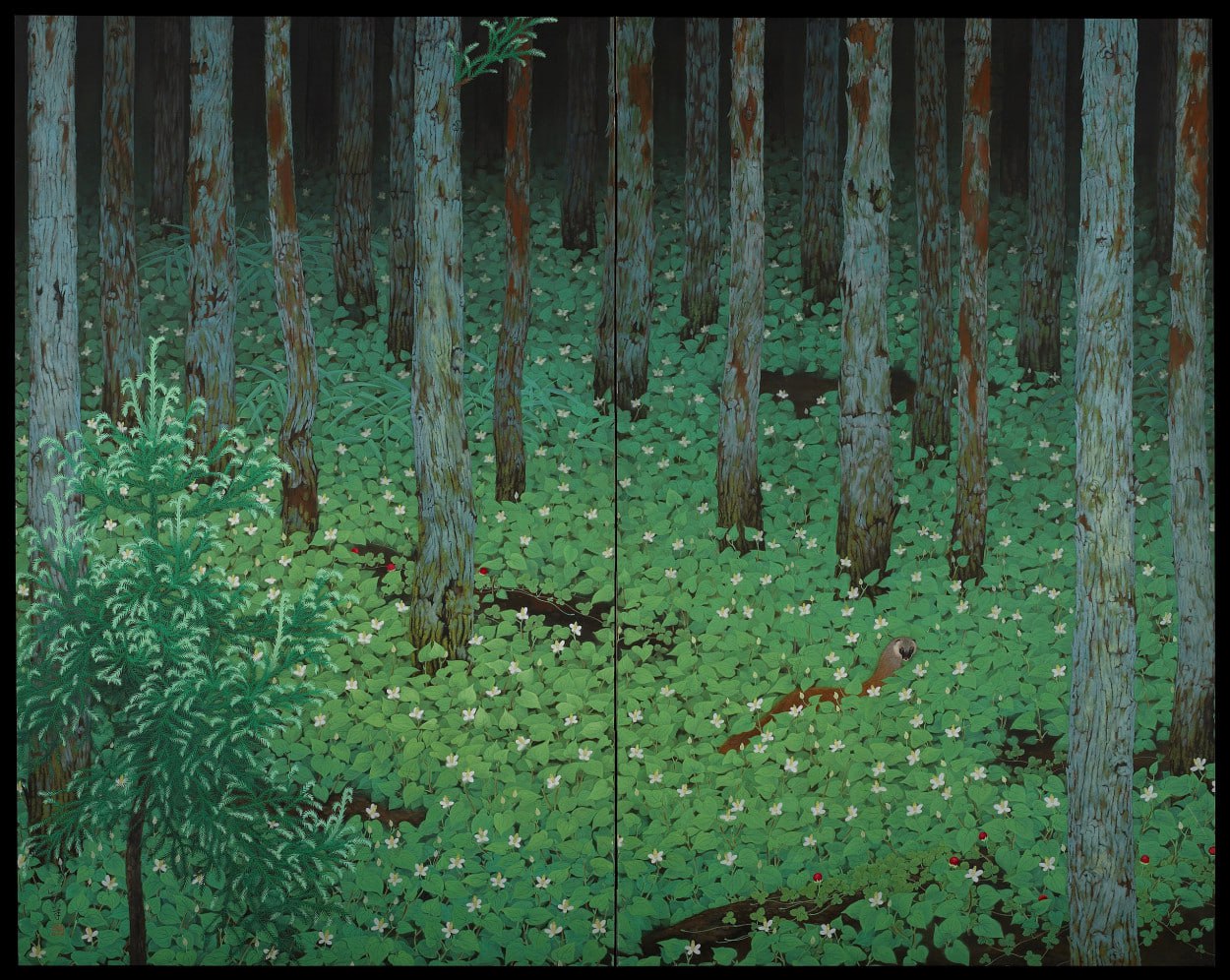Территория судьбы

Как оценивает сложившуюся ситуацию президент России Владимир Путин? Я имею в виду не слова Путина, а его действительное отношение к ситуации. И знает ли кто-нибудь, кроме Путина, каково оно — его действительное отношение к этой самой ситуации, острой, как никогда? И знает ли сам Путин, каким будет его отношение к этой ситуации через несколько дней, когда ситуация эта, мягко говоря, дооформится?
Я убежден, что кредо Путина — это ситуационное реагирование. Что Путин когда-то давно определился во всем, что касается и идеологии, и стратегии. Он решил, причем не умозрительно, а всем своим политическим естеством, что для России на нынешнем этапе и идеология, и стратегия являются недопустимой роскошью. Потому что не только идеология, но и стратегия сковывают руки лицам, принимающим решения, загоняют эти решения в определенный коридор и тем самым делают эти решения избыточно предсказуемыми для противника. А Россия в ее постсоветском состоянии не может ничего такого себе позволить.
Что же такое это самое постсоветское состояние?
«Вы не смеете так себя вести! — шипела представительница США в ООН Саманта Пауэр нашему представителю в ООН Виталию Чуркину. — Вы — проигравшая страна!»
Ну вот, наконец-то точки над i расставлены. Проигравшая страна... Слабая региональная страна, опасная для соседей именно своей слабостью... Вот что такое Россия для США и Запада в целом. Запад может лукаво поздравлять Россию с освобождением от коммунистического тоталитарного ига. Но в любой острой ситуации Запад это лукавство сразу отбрасывает. И прямо говорит, что Россия проиграла холодную войну. Что тем самым Беловежские соглашения являются немного смягченным вариантом акта о безоговорочной капитуляции, который подписала Россия как побежденная. И что подлинным содержанием Беловежских соглашений является согласие России на свое расчленение сообразно планам и воззрениям победителя.
В стане победителя, как мы знаем, шли горячие споры по поводу того, надо ли расчленять Россию до конца. Или же надо сохранить Российскую Федерацию как обрубок России, как страну региональную, слабую и находящуюся под неявным внешним управлением.
В 1991 году победила точка зрения тех, кто не хотел расчленять Россию до конца, исходя из своих геополитических представлений. В основе которых было нежелание отдавать российскую территорию Китаю и государствам исламского мира; серьезное беспокойство по поводу ядерного оружия; тревога по поводу возможности русской восстановительной ирреденты (движения за воссоединение отторгнутых и расчлененных территорий с исторической родиной). И, наконец, острейшая тревога по поводу возможности той или иной коммунистической реставрации, за которой должна была бы последовать и реставрация СССР в какой-то его новой модификации.
«Нет уж, — сказали Буш-старший, Бейкер, Кондолиза Райс, Роберт Гейтс и другие не слишком оголтелые консерваторы. — Пусть лучше сохранится подконтрольная нам Российская Федерация, куда будет свезено ядерное оружие. Мы этой самой Федерацией будем управлять и экономически, и политически. Она сама будет оплачивать расчленение большой России. К примеру, держать на плаву Украину — с тем, чтобы та могла проводить воинствующую украинизацию и дерусификацию».
Сказано — сделано. Ельцинская Россия покорно занималась именно этим. И вдобавок брала на себя преступления, необходимые для сдерживания неосоветских реставрационных тенденций. Такие, например, как расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года. Представьте себе, что не российские, а американские танки стали бы стрелять по Дому Советов. Вся Россия поднялась бы в единый миг, не правда ли? Ну, а когда тем же самым занимается своя армия и своя власть — дело другое. Опять же своя — ну прямо в доску своя! — либеральная интеллигенция требует, чтобы раздавили неосоветскую гадину, которую она же сама еще недавно именовала демократическим Верховным Советом. И антисоветские настроения в обществе не до конца еще истреблены радикальными реформами. И антикавказские настроения можно подогреть, с ухмылкой обсуждая Хасбулатова. И провокации можно успешно разворачивать, используя наивность всё еще во многом советского общества... Глядишь, и сойдет то, что в ином варианте ни в жисть бы не сошло.
Вот для чего была сохранена ельцинская Россия, она же Российская Федерация. Вот почему победитель не разрезал ее на куски в соответствии с сочиненной когда-то при помощи проамериканских бандеровцев Декларацией о порабощенных народах.
Но в самом страшном сне никому из победителей тогда не могло присниться, что эта недобитая Россия начнет претендовать на нечто большее, нежели жалкое прозябание с постоянной пугливой оглядкой на статус проигравшей страны. И вот вам, пожалуйста... Сначала слабые попытки действовать за рамками этого статуса... Мюнхенская речь Путина... Отпор Грузии в Южной Осетии... Признание независимости Абхазии и Южной Осетии... Но это еще можно было как-то стерпеть.
Впрочем, даже это никто просто так проглатывать не намеревался. И именно отсутствием подобного намерения объясняется попытка победителя осуществить в России зимой 2011–2012 гг. оранжевую революцию, избавившись от надоевшего Путина, пытающегося вывести страну из роли пристыженно-пугливой капитулянтки, готовой сделать всё, что ей прикажет так называемое мировое сообщество.
Сначала разгром на Поклонной горе уверенных в себе российских оранжоидов... А потом — «возмутительное» поведение Путина в Сирии. Такое поведение, которое спустить ну уж никак было нельзя. Ответом на это поведение стал киевский Майдан 2013–2014 гг. Прими Россия этот Майдан как данность, натовские ракеты встали бы рядом с Белгородом и Курском, а Черноморский флот оказался бы выброшенным из Севастополя. Ну, а всё остальное, что называется, дело техники.
Путин, допустивший такой разворот событий, был бы свергнут. А Россия — мягко или жестко расчленена. В полном соответствии с уже упомянутой мною выше Декларацией о порабощенных народах.
Понимая это, Путин отреагировал — ситуативно и достаточно точно. Россия, присоединившая к себе Крым, очевидным образом вышла за рамки, задаваемые позорной капитуляцией, подписанной в Беловежье в 1991 году. Свершилось то, что Джордж Буш-старший, Бейкер и другие не могли себе представить в момент, когда согласились на недорасчленение России.
Ну и как на это должны отреагировать США? Страна невероятно амбициозная и одновременно донельзя изнеженная? Те самые США, которые до предела осторожничают даже с Северной Кореей, страной, неизмеримо более слабой, чем Российская Федерация?
Разве не является высоковероятной реакция США, аналогичная той, которую породили российский отпор Грузии в 2008 году, признание Россией Абхазии и Южной Осетии и так далее? Я убежден, что президент России Владимир Путин считал и, возможно, до сих пор считает высоковероятной именно такую реакцию США на присоединение Крыма к Российской Федерации. Причем эта моя убежденность фактически ни на чем не основана. Ведь нельзя же и впрямь основывать ее на отдельных примирительных высказываниях Путина, на проявленной Путиным публичной заботе о российских либеральных СМИ и так далее.
Всё это очевидным образом подчинено той же логике, что и Женевские четырехсторонние соглашения. Нелепо обвинять фехтовальщика, отступающего на полшага и уклоняющегося от атаки противника, в том, что он позорно бежит с поля боя. Предлагать Западу политический торг можно в двух случаях. Если ты действительно хочешь дорого продать тот или иной товар. Или если ты хочешь чего-то совсем другого, но при этом демонстрируешь добрую волю: «Вот ведь, хотел я продать. И цену предлагал умеренную. Как со мной в ответ обошлись? Ну так и я не лыком шит, знаете ли...»
Мне представляется, что Путин вполне мог бы продать — Западу вообще и США в первую очередь — товар под названием «стабилизация Юго-Востока Украины», если бы покупатель мог заплатить достойную цену. К примеру, признать присоединение Крыма к России, а также согласиться на нейтральный статус оставшейся Украины, на усмирение так называемого «Правого сектора» и так далее. Но, как мы видим, Запад отказывается от любого неунизительного соглашения, основанного на достойной оплате ценного политического товара. Запад в целом и прежде всего США не намерены действовать в сложившейся ситуации по принципу купли-продажи. Или, точнее, единственный товар, который Запад готов купить у России, именуется холодной войной.
Об этом уже прямо сказано и Обамой, и членами его команды, и ведущими американскими СМИ, причем такими, чье мнение значит гораздо больше, чем мнение Обамы.
Ну, и каково же действительное отношение Путина к подобным заявлениям? А также к появлению в Киеве директора ЦРУ Джона Бреннана, а теперь еще и вице-президента США Джо Байдена? Ведь Путин — очень опытный политик, он не может не понимать подлинного смысла этих шагов. Как не может он не понимать значения явно программных статей в «Нью-Йорк Таймс» и других ключевых западных СМИ, где прямо сказано о возвращении США к доктрине Кеннана, то бишь к той самой холодной войне, верой в возможность недопущения которой пронизаны все слова и поступки Путина.
Но, может быть, Путин притворяется, утверждая, что верит в возможность недопущения холодной войны? Всё может быть, читатель. Президент России Владимир Владимирович Путин — человек предельно закрытый. И я никоим образом не претендую на лавры распознавателя его подлинных, тщательно скрываемых оценок происходящего.
Кстати, может быть и другое. То, что Путин прав, утверждая, что можно не допустить холодной войны между Россией и Западом. Путин руководит — когда де-факто, а когда еще и де-юре — российским государством уже 14 лет. За это время он выстроил отношения и с политическим истеблишментом Запада, и с западной элитой. Путин создал множество очевидных и неочевидных инструментов, позволяющих ему вести определенным курсом корабль российской государственности. Сторонний наблюдатель, каковым я, безусловно, являюсь, в принципе не может оценить до конца силу тех неочевидных инструментов (и аргументов), с помощью которых Путин небезуспешно руководит Россией в течение столь долгого срока.
Короче говоря, я не могу привести читателю достаточных аргументов, доказывающих справедливость моего суждения по поводу действительных представлений Путина о сложившейся ситуации. Я не могу это сделать и потому, что любой набор моих аргументов можно оспорить. И потому, что нельзя в газетной статье детально обосновывать справедливость тех или иных моих аргументов... И по многим другим причинам.
Единственное, что я могу, — это сослаться на свой немалый политический опыт, на какую-то свою осведомленность, на политическую и иную интуицию, наконец. И, предоставив читателю полное право не доверять подобным крайне зыбким стихиям, изложить ему свое мнение по столь неочевидному и туманному вопросу, каковым является вопрос о подлинном отношении Путина к происходящему.
Мне представляется это крайне важным сразу по нескольким причинам.
Причина № 1 — глобальная ситуация и впрямь невероятно остра. То, в какую сторону она будет развиваться, не может не волновать читателя. Потому что любой вариант ее развития окажет на читателя самое непосредственное воздействие.
Причина № 2 — все невероятно острые глобальные ситуации взыскуют того или иного смысла. Смысл — это своего рода лекарство, позволяющее выпутаться из острейшей глобальной ситуации с наименьшими издержками. Чем мощнее и глубже смысл, с тем меньшими издержками можно будет разрешить ситуацию. И напротив, полное отсутствие смысла чревато максимальными издержками при разрешении ситуации. А что такое максимальные издержки, мы все понимаем. Речь идет, конечно же, об издержках, порождаемых не холодной, а горячей войной. Причем, не исключено, ядерной. И, право слово, язык не поворачивается называть подобное максимальными издержками при выходе из сложившейся ситуации.
Причина № 3 — проводимый нами социологический опрос, которому мы решили посвятить несколько номеров газеты «Суть времени», имеет, как это ни покажется странным, самое прямое отношение к тому, с какими именно издержками мы выйдем из сложившейся ситуации.
Но об опросе чуть позже.
Сейчас же я перейду от разного рода оговорок к прямому и бездоказательному изложению моего представления о том, каково действительное отношение Владимира Путина к сложившейся ситуации.
Мне представляется, что Путин верит в возможность преодоления сложившейся ситуации без перехода к качественно новому формату отношений между Россией и Западом. Более того, мне представляется, что Путин уверен в такой возможности.
Я не буду гадать по поводу того, каковы сугубо рациональные резоны, в силу которых Путин уверен в возможности такого разрешения ситуации. Мало ли какие резоны по поводу возможности влиять на формат отношений США и Саудовской Аравии существуют у высшей элиты саудовского маломощного государства... Не будет ведь элита обсуждать эти резоны публично. Ну так и я не буду. Тем более что, по моему глубокому убеждению, не эти рациональные резоны лежат в основе действительного представления Путина о ситуации. В основе этого представления лежат не рациональные резоны вообще, а ценности.
Чем чаще с годами Путин говорит о своем прагматизме, тем яснее становится, что прагматизм является лишь внешним слоем путинской политики. А внутренним слоем этой политики являются ценности, достаточно далекие от прагматики. Другое дело, что эти ценности основаны на абсолютности сохранения России как таковой. И на представлении о хрупкости нынешней России, и впрямь в существенной степени являющейся продуктом непрозрачных договоренностей об условиях капитуляции в холодной войне.
Именно поэтому Путин считает необходимым ситуационно реагировать на происходящее. И действовать на основе холодного пренебрежения всем тем, что может связать руки при осуществлении того или иного поворота курса корабля российской государственности. И тем не менее, ценности у Путина есть. И это ценности типичного западника, являющегося в то же время ревнителем величия российского государства. Путин — это такой западник. Средоточием ценностей такого российского западничества, его, говоря образно, Меккой и Мединой, является город Санкт-Петербург. Высшим выражением этой ценностной установки является империя Романовых. Героем, олицетворяющим собой этот дух, является Петр Великий.
Каким именно образом этот имперский романовский дух передается определенным — конечно же, не всем, но многим, — обитателям города Санкт-Петербурга, объяснить достаточно трудно. Тут вообще надо верить в то, что дух есть, что он передается. Что он может, как вирус или как лекарство, прятаться в порах зданий, воде рек, быть разлитым в воздухе и так далее.
Поэтому я предлагаю не вдаваться в подробные обсуждения того, каким именно образом и когда соединился этот дух с далеко не элитным и уж никак не имперским жителем города Ленинграда по фамилии Путин. Как-то вот взял он, этот дух, и вселился, и всё тут.
Гораздо важнее обсудить, что это за дух. И как в нем сочетается великодержавность и западничество.
Запад не всегда был законодателем мировой моды. Презренной и варварской провинцией был этот Запад даже для ислама XI–XII веков, причастного к высокой эллинской культуре и презирающего безграмотность крестоносцев, крайне мало осведомленных по поводу римских корней своей культуры, именующих эти корни сатанинскими, не способных соединиться со своими корнями — в том числе и в силу почти тотальной безграмотности.
Тем более этот Запад не мог быть законодателем моды для Китая той эпохи — этого гиганта, с невероятным высокомерием относившегося к каким-то там западным муравьям.
Но начиная с XVII века Запад вдруг стал вызовом для всех тех, кто ранее относился к нему, как к недостойному варвару. Может быть, и тогда отношение к Западу как к недостойному варвару сохранилось. Но этот варвар был признан не только недостойным, но и крайне опасным. Опасность Запада стремительно нарастала. И, наконец, она стала столь велика, что западного варвара пришлось волей-неволей сделать объектом хотя бы для внешнего подражания. Причем подражающие, конечно же, пытались подражать Западу максимально поверхностно. Ну, купить, например, западные пушки, нанять западных инструкторов — и баста. Именно так поступала Османская империя.
Другие же поняли, что подражать надо не столь внешне. Что эти самые чертовы пушки надо научиться производить. И что каким-то таинственным мощным образом позаимствовать что-то у Запада можно, только добавив к западным инструкторам еще и переодевание своих солдат в западные кафтаны, бритье бород у своих бояр, обучение правящего сословия иностранным языкам и прочим иностранным премудростям. Именно так всё было понято Петром Великим. И Петр преуспел. В отличие от османских султанов, которые пытались ограничиться гораздо более внешним заимствованием всего того, что было для них связано с западным могуществом.
Открытым остается один вопрос — зачем осуществил Петр Великий такое, продуктивное с точки зрения военной и геополитической эффективности, но культурно-разрушительное заимствование. Он осуществил его для того, чтобы пожертвовать частью русской идентичности, сохранив сердцевину этой идентичности? Или же он осуществил его для того, чтобы, расправившись с русской идентичностью, превратить Россию в классическую западную державу?
Расправляясь со старообрядцами, которые противопоставляли непрозрачной историософии Петра свою донельзя прозрачную историософию Третьего Рима (она же историософия Московского царства), Петр не посмел или не захотел расправиться с православием. Так не посмел или не захотел? Пресловутое завещание Петра Великого, в котором было предложено, осуществив все необходимые заимствования и укрепившись, повернуться к Западу задницей, — это, скорее всего, фальшивка. Но одно дело — крайняя сомнительность написанного документа, а другое дело — дух империи, созданной Петром.
Каков он был, этот дух? По этому поводу шли яростные споры. Споры длились столетиями. Огромную роль для русской имперской культуры и русской имперской идентичности сыграло то, что Пушкин принял сторону Петра Великого. Причем с высокой степенью определенности. Хотя, с другой стороны, можно ли считать его поэму «Медный всадник» однозначным принятием и самого петровского духа, и всего того, что этот дух породил?
XVIII и XIX века сформировали определенный противоречивый московско-петербургский консенсус. Народ, не принявший петровских яростных инноваций и ушедший в глухую оборону, простил Петру многое за победу над иноземцами, жаждавшими окончательного решения русского вопроса. За выход к морям. За приумноженное державное величие. Но в народной душе оставался вопрос: «Зачем всё это? И что это собой знаменует?» Ведь любое величие для народа было лишь средством а) защиты от уничтожения врагом и б) утверждения некоей великой правды. Правда же эта была для народа явным образом антизападной.
Что же касается московской элиты, аристократии Московского царства, не признавшей Романовых до конца, то эта аристократия сохраняла условную верность Романовым лишь постольку, поскольку имела место возможность использования завоеванного ими имперского величия для реализации историософской цели. Каковой для этой элиты, конечно, был крест над Святой Софией.
Ради этого креста, олицетворяющего историософскую мечту о достраивании России как нового Восточного Рима, самые разные антиромановские круги готовы были идти на глубокое соглашение с Романовыми. А также с теми группами, которые встали на путь поддержки Романовых и их идеи синтеза западничества с великодержавностью и всего, что из этой идеи вытекало.
Противоречия между западничеством и великодержавностью нарастали. Накапливалась, образно говоря, взрывчатка этих противоречий. Все чувствовали, что взрыв неизбежен. Но никто не знал толком, когда он произойдет. Разрываемая изнутри этим противоречием, Россия то застывала, то начинала бурно развиваться. То побеждала Запад, то была вынуждена перед этим Западом пасовать.
Взрывчатка противоречий сдетонировала в финале так называемых Балканских войн. На эти войны за освобождение братьев-славян от тирании Османской империи с радостью пошли все: и московские ненавидящие Романовых аристократы, и русские ненавидящие царизм революционеры. Все оказались под обаянием мессианской возможности креста над Святой Софией. Эта возможность была куплена большой кровью.

Но тогда, когда русские победители осман, вкусив победы, купленной этой кровью, оказались в одном, последнем шаге от выполнения миссии, им было приказано отступить. Почему надо было отступить, никто не понял. Какие-то западные политики погрозили пальцем России, победившей осман. И российские правители струхнули, предав народ и аристократию, вместе проливавших кровь во имя великой победы и исполнения миссии.
Так что же это за такие правители?
Этот зловещий вопрос встал тогда во весь рост. Он приобрел, по сути, окончательный характер. И было сказано сразу и народом, и аристократией: «Вестимо, что это за правители! Это паскудные Романовы, подлые и коварные! Это посягатели на основы вековечной русской жизни! Это бездушные космополиты, которые крестятся в церквях и одновременно презирают всё, что дорого мессианской русской душе».
Следом за этими словами началось всё то, что началось. Сказавшие эти слова революционеры начали взрывать царей. Сказавший это народ отпал, скрежеща зубами. Крайне сложные и губительные процессы начались в Церкви. И, наконец, московская аристократия приняла окончательное решение. Которое решающим образом определило всё то, что произошло 1917 году.
Вердикт был вынесен. Русские цари с этого момента оказались фактически приговорены. Приговорена оказалась и сама идея западничества в сочетании с великодержавностью. Ничто здесь не могло повлиять на сделанную в определенный момент оценку. Возможно, Николай Второй и не считал себя классическим романовским, петербургским императором, выразителем идеи единства великодержавия и западничества. Но и он сам, и весь его род уже были опознаны именно в этом качестве. И сказано было этому качеству, чтобы оно сгинуло. Ну так оно и сгинуло.
Большевики полностью восстановили идею Третьего Рима. Конечно же, они восстановили ее весьма своеобразно. И, конечно же, воинствующий атеизм как одно из слагаемых этого своеобразия породил губительные последствия. Но даже этот атеизм был прощен в определенной степени, потому что большевики с предельной определенностью заявили, что Запад как оплот капитализма глубоко чужд русской душе и русскому духу, является врагом русскости и так далее.
То, что Маркс, создавший коммунизм, — это тоже западник, не имело никакого значения. И даже, напротив, имело значение позитивное. Потому что, в конце концов, Россия никогда и не хотела до конца порвать с Западом. Россия не Китай и не Индия. Россия претендует на то, чтобы принести миру подлинную западную правду, правду Византии, искаженную папством.
С методологической точки зрения — что правда «русской Византии», искаженная западным папством, что правда русского коммунизма, искаженного западным капитализмом.
Сомневаясь еще в том, что Ленин и впрямь готов исправить историософские ошибки Романовых, русские увидели в Сталине подлинного исправителя этих ошибок. Столицу в Москву перенес еще Ленин. Но именно Сталин заявил во всеуслышание о построении социализма в отдельно взятой страны, то есть о русской миссии. Сталин восстановил патриаршество, растоптанное Романовыми. И Сталин возглавил войну святой/коммунистической Руси с западным/гитлеровским сатанизмом.
Уйдя, хотя и неявным образом, при Петре от концепции Третьего Рима, Россия при Сталине вернулась к этой концепции полностью. А тут еще и способность создания сильного ВПК, победившего ВПК Европы, и способность создания ядерного оружия. И всё то, что привело после Сталина к нашим победам в космосе. Плюс к тому, что Россия/СССР не просто научилась заимствовать технологии Запада, а заставила Запад копировать и свои технологии, и (что намного важнее) свою систему образования.
Будучи особым триумфом мощнейшего русского «альтернативизма», каковым, по сути, и был коммунизм, триумфом атеистического, но, по сути, святого неовизантийского Красного проекта, СССР своим поражением породил особо жестокий и грубый историософский шок.
Казалось, что всё кончено. Полное и окончательное исчезновение русскости, потерпевшей такое сокрушительное поражение в войне, которая была названа холодной, эта русскость намертво связала с Горбачевым.
С Ельциным была связана капитулянтская остаточная русскость. Мол, разгромили в страшной войне самым чудовищным образом, теперь надо смиряться... И очень долго жить под оккупантом, сообразуясь с тем, что он диктует. О том же самом говорили и московские политики, такие, как Лужков. Именно он сделал расхожим бытовавшее и до него сравнение западной оккупации России после холодной войны и оккупации Руси татаро-монголами. Впрочем, при мне такое сравнение проводил уже последний премьер-министр СССР В. С. Павлов. Мол, татары уже поставили свои шатры в Кремле, а мы всё не понимаем, что надо сообразовываться с новой действительностью. В итоге Валентин Сергеевич отказался с нею сообразовываться, хотя и мог.
Что же касается Ю. М. Лужкова, то задействование командой московского мэра этой же политической метафоры было поливалентным. В ней была и необходимость смиряться перед могуществом оккупанта, как смирялись русские князья перед ордой в определенную эпоху, и возможность отсроченной победы над ордой.
Сам Ельцин, начав с предъявления себя как советского реформатора, перейдя потом на рельсы оформления капитулянтства, в итоге возжелал выступать в роли чуть ли не традиционалистского русского царя. И лукаво заигрывал со всеми претендентами на роль русского монарха, твердо понимая, что монархом-то на самом деле является он.
Впрочем, ни Иваном Грозным (Московская Русь как Третий Рим), ни Петром Великим (петербургская Русь как прозападная империя) Ельцин не стал. И если уж рассматривать всерьез его претензии на роль царя, то речь идет об условной соразмерности Ельцина образу какого-нибудь царя Берендея. На которого он впрямь был похож и ликом, и повадками, и многим другим.
Приход Путина был рассмотрен многими с позиций упорядочивания российского капитулянтства. Но это была ошибочная трактовка. Совершившие ошибку олигархи и члены ельцинской семьи дорого за это заплатили впоследствии. На самом деле приход Путина был приходом Петербурга. То есть попыткой воскрешения именно романовского духа, основанного на единстве западничества и великодержавности. С каждым годом правления Путина становилось всё яснее, что это именно так.
Но окончательно это стало ясно только после присоединения Крыма. Путин всерьез вознамерился соединить западничество и великодержавие. И — в этом своем намерении — оказался лицом к лицу с западным планом по возврату к холодной войне и окончательному решению русского вопроса.
Петербургская идея и даже петербургский дух, основанные на единстве западничества и великодержавия, очень мощно укоренились в Путине как реально очень осторожном государственном лидере. Они укоренились в его разуме и психике (и чуть ли не в его телесности) настолько мощно, что реальность, олицетворяемая Обамой и прочими, оказалась для Путина на втором месте. На первом же месте прочно утвердилась эта самая укорененность.
Запад стремится не мытьем, так катаньем добить Россию.
Путин яростно защищает Россию от этих происков Запада. И, напротив, стремится к укреплению и расширению российского государства.
Но, оказавшись самым главным врагом Запада, врагом беспредельно ненавидимым, чуть ли не метафизическим, Путин не может отказаться от своего западничества. Он всячески за это западничество держится. Он тем в большей степени за него держится, чем больше обостряются его отношения с Западом. Путин не может поверить, что перед ним стоит трагическая дилемма: или западничество, или великодержавность России, да и российская державность вообще.
«Да пошли вы к черту с вашим «или»! — говорит Путин тем, кто предъявляет ему эту альтернативу. — Нет никакого «или»! Мы будем и западниками, и великодержавниками».
Нанеся Западу смертельный удар присоединением Крыма (ибо действительная концепция западного господства в XXI веке держится на полном контроле Запада над Черным морем), Путин одновременно говорит о том, что новоназначенный генсек НАТО — это отличный мужик, с которым у него хорошие отношения. И обещает восстановить возможности телеканала «Дождь».
Пятая колонна Запада в России вожделеет путинской гибели как заветной мечты, а Путин обласкивает эту пятую колонну. Путинский аппарат пытается ее приручить грубейшими незамысловатыми способами. Мы все лицезрим ту наивную трогательность, с которой это осуществляется.
Я более чем понимаю и ценностную природу, и политическую логичность этих шагов Путина. Мол, «наносим по Западу удар и тут же начинаем гладить его по головке, говорить, что мы пошутили, делать ему уступки, удерживать его от агрессивного прыжка, успокаивать его пятую колонну»...
Уже выступая на Поклонной горе, я мечтал о прекращении споров с Н. К. Сванидзе, сознавая, что продолжение этих споров глубоко бессмысленно, что все задачи, связанные с участием в этом споре, мной уже полностью решены. Но я осознавал и другое. Что сразу после Поклонной горы начнется «медовый месяц» в отношениях между Путиным и западниками. Осознавал я и то, что этот «медовый месяц» продлится недолго, вплоть до нового обострения отношений с Западом. Обострение произошло в связи с «законом Магнитского» и породило ответный удар по Западу в виде «закона Димы Яковлева». Этот удар казался многим неловким и мелким. Но это было совсем не так. Прошу читателя поверить — это было ну совсем, совсем не так. И вот почему.
«Вы унизили США, апеллируя к ядерному оружию», — кричала Саманта Пауэр Виталию Чуркину. Это самое «унизили США» не оценивается в полной мере нашей элитой, думской, в первую очередь. Потому что господствует вера в абсолютный американский цинизм. А для абсолютного циника слово «унизили» — это пустое слово. Американский цинизм неистов и огромен. Но в том-то и штука, что он не абсолютен. Что в теле этого огромного смердящего цинизма есть крупицы своеобразной агрессивной идеальности. И все они укоренены в словосочетании «вы унизили США».
Казалось бы, российской, во многом криминальной элите должна быть понятна связь между словами «унизили» и «опустили». А поскольку американская элита чудовищно криминальна и одновременно преисполнена дичайшего морального пафоса, то для меня в словах «вы унизили США» содержится огромный зловещий смысл. И сколько бы мне ни говорили, что я этот смысл преувеличиваю, я с тактичной вежливостью продолжу отстаивать правоту моей точки зрения.
Да, я не разговариваю с Обамой по телефону. И не пользуюсь аналитическими услугами господина Киссинджера. У меня нет инструментов, позволяющих добиваться чуть ли не любви господина Бжезинского и многого другого. И, наконец, я могу только тактично догадываться о тонких деталях биографии, к примеру, Ангелы Меркель. У Владимира Путина совсем другие возможности. Ему все эти тонкие детали известны от и до. И он этим знанием очень талантливо пользуется.
Пользуется он и разнообразными мотивами, порождающими осторожную, но яростную любовь к России у разного рода американских аналитических гуру.
И всё это делает более весомой оценку Путина, согласно которой Россия долбанет по Западу, как корабль, двигающийся определенным курсом, присоединит Крым и будет двигаться прежним курсом.
Но давайте все-таки спросим себя: «А если это будет не так? Что тогда?»
Россия унизила США в первый раз, пообещав в 2008 году ввод войск ОБСЕ на Кавказ — и тут же решительно от этого отказавшись. (Помните — Миссия Медведев–Саркози?)
Россия унизила США во второй раз, отразив оранжевую революцию 2011–2012 гг. в Москве.
Россия унизила США в третий раз, приняв «закон Димы Яковлева», то есть (прошу внимания!) сказав циничным американцам, с придыханием говорящим о морали, что они не Град на холме, а нация детоубийц. Возможно, Россия хотела сказать что-то другое. Но американцы услышали именно это.
Россия унизила США в четвертый раз в Сирии.
Россия в пятый раз унизила США, присоединив Крым.
США — это гниющая, разлагающаяся сверхдержава. Своего рода Рим эпохи Нерона или Диоклетиана. Но это огромной мощи зверь, который не умер, а умирает. Зверю очень хочется прыгнуть. Он даже надеется выздороветь в этом прыжке. Зверю нужна холодная война. И никакие поглаживания зверя по шерсти, никакие причитания «хороший зверь, добрый зверь, любимый зверь», никакие подачки зверю в виде гонораров и бонусов, никакие уступки зверю — не имеют никакого значения.
Петербургский сплав великодержавности и западничества, этот особый постсоветский сплав имени Путина, дает трещину. Поверьте мне, он уже дал эту трещину. Историческая заслуга Путина по присоединению Крыма несомненна. Ликовать по поводу этой трещины сегодня может только отпетый негодяй. Всё, что мы можем, — это незамедлительно оформлять холодную войну, вносить в ее бессмыслицу огромные смыслы. Смягчать этим холодную войну, делать ее для нас более победной. Способствовать — через это осмысление и смягчение — устойчивости нашего государства.
Когда нам говорят, что всё это надо делать через написание национальной идеи, то это полная чушь. Ничто написанное не имеет никакого значения. Воскресите всех гениев человечества и заставьте их написать самый блестящий текст — ничего не изменится. Смыслы надо искать в реальности. Да-да, в той ужасной реальности, в которой мы живем. И эти судьбоносные смыслы имеются.
Смысл № 1 — это традиционные ценности. Нынешний Запад отказывается от традиционных ценностей. К каковым, безусловно, относятся ценности не только религиозные. Традиционными теперь являются и ценности классического Модерна.
Россия, как показывает проведенный нами беспрецедентно глубокий опрос, осталась страной традиционных ценностей. Мы знаем теперь, в какой мере она является такой страной. И в какой мере в этом своем качестве она не является частью Запада, который стремительно движется от ценностного Модерна к бесценностному Постмодерну.
Заявив о себе как о западном оплоте традиционных ценностей, подкрепив эту заявку опросом, мы получаем шанс на оптимальное оформление нашего развода с Западом. Шанс на идеологизацию холодной войны. То есть шанс на спасение.
Смысл № 2, тоже глубочайше укорененный в реальности, — это 9 Мая 1945 года. У нас нет другого консенсусного праздника, и это говорит о многом. «Спасибо деду за Победу!» — это почти вся наша ценностная реальность. Ее необходимо дооформить. Ее надо очистить от клеветы и бреда. Бредом является то, что страна победила вопреки Сталину. Простите, так не бывает. Нельзя победить вопреки Верховному Главнокомандующему.
Возвращение Сталину статуса созидателя Великой Победы совершенно не требует восхваления всего и вся. Но этот статус надо вернуть. И лучше всего это сделать прямо 9 мая 2014 года.
Одновременно с этим надо вернуть высокий статус всему советскому. Потому что, как нет победы без Сталина, так нет победы и без советскости.
Вопрос о том, как именно будет возвращаться этот статус — это технологическая частность. Главное, что его надо вернуть.
Одновременно с этим надо выявить предельно черное содержание нацизма, который был побежден 9 мая. Фашистская сила темная, проклятая орда, священная война — эти слова не могут оставаться полупустыми. Им должно быть придано высокое священное содержание.
Придав это содержание, мы просто обязаны адекватным образом оценить пособников нацизма. И не только бандеровцев. Нельзя назвать абсолютным злом Бандеру и при этом требовать сдержанной оценки Власова. Это тот вопрос, в котором воистину или всё, или ничего.
Придавая такое значение 9 мая и выявляя то значение побежденного врага, которое только и может придать такое значение 9 мая, мы должны признать сакральность Советского Союза, его роль святого утеса, о который разбилось воинство врагов рода человеческого — гитлеровских нацистов и их приспешников.
Это потребует от наших традиционных религий определенного мужества. Ибо атеизм СССР является кажущимся препятствием на этом пути. Но религиозные мыслители знают, что для высшей воли кажущийся атеизм может стать опорным средством. Ибо дух дышит там, где хочет.
Соединение указанных смыслов может оформить новую реальность. И одновременно смягчить ее. А также придать ей дополнительную устойчивость. Главное — успеть это сделать.
И в этом — важность того нашего опроса, краткий анализ которого заканчивается в этом номере газеты.
Опросы — это оружие. Осуществляя их, мы соединяемся с главным, с реальностью. А победить может только тот, кто соединен с реальностью.
Призывы отказаться от опросов вполне сродни призывам отказаться от огнестрельного оружия ради чистоты сабельного или боя с использованием только благородного оружия (каковым часть туземцев, выходивших на бой с армиями Запада, безусловно, считали лук и стрелы). Поразительно, что призывающие к этому мудрецы одновременно славословят Путина, прямо заявившего, что решение о присоединении Крыма было принято на основе соцопросов.
С радостью предоставляю авторам соцопроса возможность со смаком разобрать маразмы наших двусмысленных проповедников идиотско-мракобесной архаики, по странному стечению обстоятельств оказавшихся еще и противниками присоединения Крыма, сторонниками бегства России от Юго-Востока Украины и так далее.
Впрочем, все эти трогательные мелочи/мерзости глубоко вторичны. Первично же другое — необходимость отказаться от укорененного внутри сплава западничества и великодержавности и перейти по определенному мосту на другую сторону «территории судьбы».
Этот мост — традиционные ценности. Возможность перейти по нему определяется тем, что он достаточно прочен. Чему залогом проведенный соцопрос.
Остается всего лишь толкнуть на поворот и собственную судьбу, и судьбу России.
До встречи в СССР!