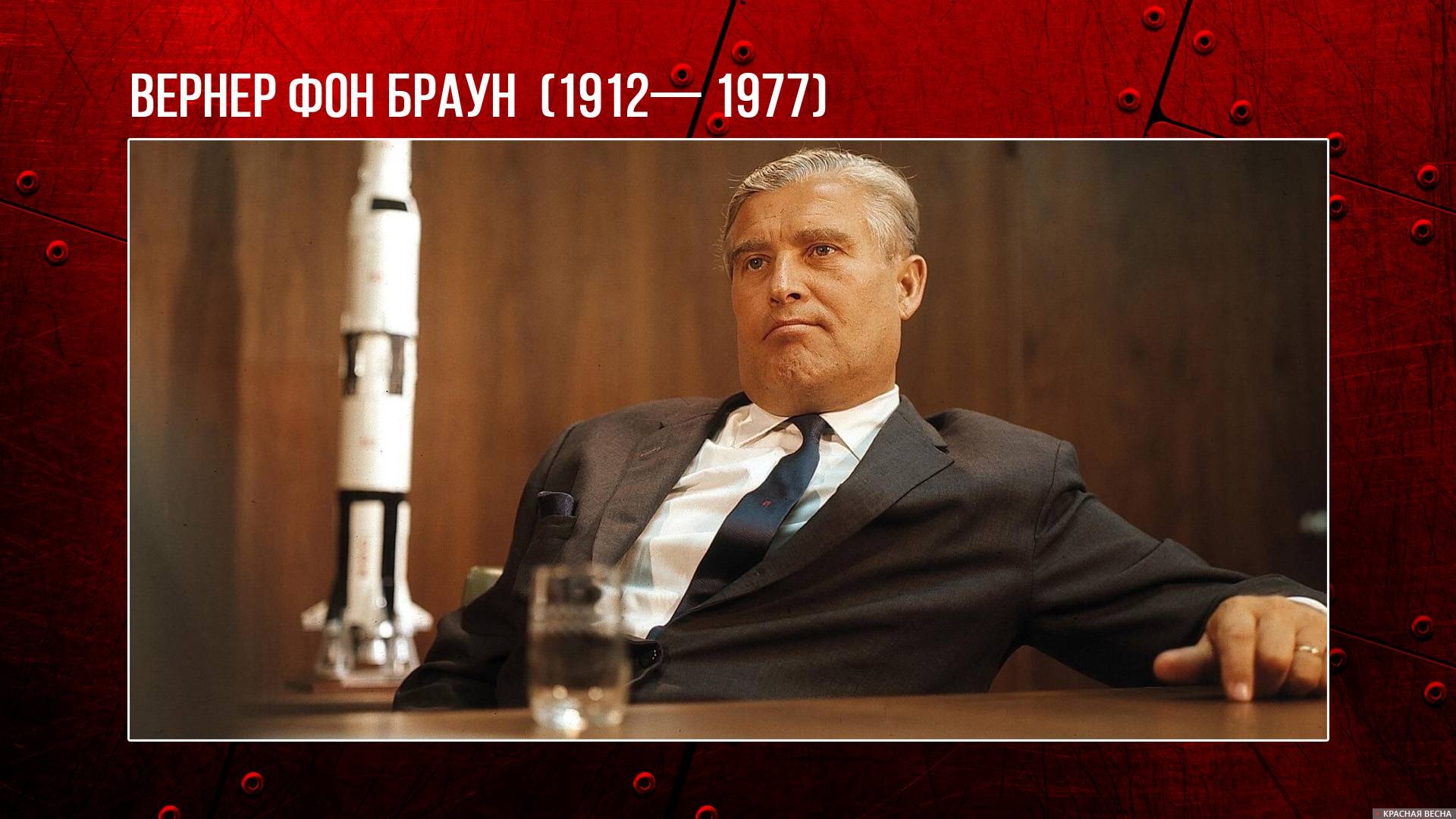Война
I.
Любая политическая статья по определению носит полемический характер. Но иногда полемика ведется по принципу «товарищ Н. ошибочно утверждает то-то, и я разоблачу товарища Н., раскрыв глаза на ошибочность его утверждения». В данной статье нет такого «товарища Н.». Если бы он был, то я бы честно сказал об этом.
Если в моей статье не названы конкретные фамилии, то это значит только одно — что и впрямь не стоит заниматься поисками черного кота в черной комнате в условиях отсутствия искомого животного в исследуемом пространстве.
Когда для пользы дела надо обсуждать «товарищей Н.» (а также «господ М.» и так далее), я это делал без всяких колебаний. Но в данном случае я спорю не с товарищами и не с господами, я не разоблачаю чьи-то провокации и интриги — я обсуждаю самый животрепещущий из всех вопросов, стоящих перед нашей организацией, перед Россией, перед человечеством. Если я и полемизирую — то не с кем-то, а с чем-то. С почти безличным смыслом, просачивающимся в политику через порой весьма уклончивые апелляции к марксизму. Причем именно к марксизму как к методу! Все другие апелляции не стоят выеденного яйца. Что же касается методологии, то тут говорится следующее.
Маркс-де, мол, рассматривал исторический процесс как сумму случайных столкновений человеческих воль, в существеннейшей степени задаваемых материальными интересами. Объективные законы задают некую рамку, в которой это случайное столкновение человеческих воль получает историческую направленность. Точка.
А раз так, то ваши разговоры о войне, штабах — что называется, от лукавого. Капитализм не воюет. Он живет. И даже если он сжирает то, что разжигает его капиталистический аппетит, то причем тут война, штабы и так далее? Штаб, план, война — все это предполагает наличие суперволи. А ничего этого нет и в помине. Капитализм живет — и этим сотворяет некое зло. Но он это зло не планирует, не превращает в тотальную многоуровневую систему ведения военных действий.
Налицо максимум-максиморум коллективный классовый инстинкт, не имеющий никакого отношения к волевой проективной деятельности.
Этак можно сказать, что узоры на оконном стекле в морозный зимний день рисует художник, накрывшийся шапкой-невидимкой. Видимо, к одному окну подошел один художник, к другому другой. А на самом деле все узоры рисует один художник — мороз. Но он-то не художник. В его действиях отсутствует волевое проективное начало. Просто в силу определенных физических закономерностей отдельные частицы укладываются определенным образом.
Подчеркну, что несколько вопросов возникает время от времени в более или менее явной форме. И что этот вопрос — он же альтернативная точка зрения по поводу того, ведется или нет война против России — порою сопрягается с другими вопросами. Например, с вопросом о том, нужно ли коммунистам объединяться с националистами и как именно. Нужно ли коммунистам объединяться с религиозными людьми и как именно.
Иногда, подчеркиваю, вопрос о методе задается вкупе с вопросами о подобного рода объединениях. А иногда вопрос о методе подымается отдельно от всех этих вопросов. Но на самом деле — все эти вопросы связаны в единый интеллектуально-политический узел. В его основе — то или иное представление об истории. Нет истории вне развития.
Дарвин утверждал, что животный мир развивается, поскольку идет естественный отбор. Сильный (а точнее, наиболее сложный и эффективный) поедает слабого (а точнее, менее сложного и эффективного). В результате животный мир усложняется, в нем есть место направленности.
Маркс утверждал, что человеческий мир развивается в результате конкуренции, в чем-то сходной с той, которая идет в животном мире. Не будем подробно рассматривать специфику этой конкуренции. Конкурируют хозяйственные субъекты и уклады, народы и государства. Борются эксплуататоры и эксплуатируемые. В результате социальное бытие получает свою направленность. Оно тоже восходит. Причем, не по проекту какой-то сверхсилы, а по причине столкновения сил. Есть объективные законы. Есть столкновение этих сил, чья произвольность компенсируется наличием этих законов. Вот и имеем то, что имеем.
Гораздо труднее было увязать все это с тем, что происходит в неживой материи. Между тем, геологические исследования показали, что неживая материя тоже претерпевает определенные метаморфозы. Вот только можно ли назвать эти метаморфозы направленным развитием? Да, остывают планетарные образования в соответствии с законами Канта и Лапласа... Но это же не развитие? Насколько какой-нибудь архей (то есть геологические пласты этого периода — с возрастом в миллиарды лет) проще и примитивнее палеозоя (геологических образований более позднего периода)? Вопрос отнюдь не простой. И, честно говоря, нетрудно было обойти его, пока речь шла просто о геологии. Его и обходили — поелику возможно.
Потому что в классической физике (а также химии и других естественных науках) не было места для направленности в том виде, в каком она свойственна живому и тем более разумному началу. Атом был атомом, молекула молекулой. Считалось, что все это возникло изначально и существует как некая данность.
Только к середине ХХ века стало ясно, что вся материя исторична. До сих пор человечество не потрудилось всерьез обсудить, каковы последствия этого нового знания. Совместимо ли оно с существующей картиной мира? Или же разрушает эту картину полностью? Человечество к середине ХХ века уже в существенной степени разучилось страстно обсуждать новые научные идеи. Оно обсуждало так Специальную теорию относительности Эйнштейна, квантовую механику, еще пять–шесть фундаментальных вопросов. А потом вопросов стало слишком много, а страсти и стратегического интеллекта поубавилось. А тут еще Вторая мировая война, огромное количество послевоенных вопросов, ядерная угроза. И стало как-то не до того.
Между тем, историчность материи как таковой радикальнейшим образом меняла не только естественные науки, но и науки вообще. Если когда-то не было вообще молекул... А до того — и атомов... А до того — и кварков, то как это понять?.. С чего это вдруг они начали образовываться? Только по причине энергетической выгоды (вместе существовать-де, мол, выгоднее, чем отдельно)? Так они о выгоде-то рассуждать не способны. Об энергетической в том числе. Кроме того, когда-то это выгодно, а когда-то нет. И уже ясно, что это не всегда выгодно.
Не считая нужным излагать в идеологической статье все, что наработали, пытаясь разобраться в этих вопросах, такие физики, как Пригожин, я обращаю внимание читателя только на одно обстоятельство. Либо мы должны признать, что неживая материя в чем-то тоже является живой, то есть способной конкурировать с другой неживой материей, отнимать у нее пищу и информацию и так далее. Либо мы должны признать, что в основе развития всей материи лежит нечто, не сводимое к одному лишь захвату энергии. А также захвату информации (негэнтропии), сбросу энтропии и тому подобным вещам.
В любом случае, классическое мировоззрение, в котором неживое, в отличие от живого, лишено самоорганизации и направленного развития, — рушится. Обнаруживается, что вся неживая материя в каком-то смысле исторична. Ну, например, она была когда-то в каком-то смысле аж неквантованной, потом возьми и отквантуйся. В порядке самоорганизации. В чем цель? Чтобы нажраться — ну, я не знаю, энергии, информации... Чтобы сбросить энтропию в среду, которую ты пожираешь, а в себя вобрать негэнтропию... Чья это цель? Материи? Ну, хорошо, она проквантовалась, самоорганизовалась до уровня элементарных частиц, затем до уровня атомов, молекул... И так далее. Неслабая картина, правда?
Согласитесь, что одно дело заявить, что электрон так же неисчерпаем, как атом. Да, это очень смелое ленинское утверждение! Да, оно полностью подтвердилось, доказав гениальность Ленина.
Но между этим утверждением и утверждением, согласно которому электрон историчен, как и атом, что когда-то атома вообще не было, а когда-то не было и электрона... А также кварков, чье наличие подтверждает ленинское утверждение о неисчерпаемости электрона…
Очевидна пропасть между обычным утверждением о неисчерпаемости материи — физической, неживой и, тем не менее, беспредельно сложной со структурной, так сказать, точки зрения — и безумным утверждением об историчности материи. Материя может быть сколь угодно сложна и при этом неисторична.
Но если она исторична — то должно быть что-то, обеспечивающее ее направленное развитие. Она же, будучи неживой, не питается, не сжирает себе подобных. Или сжирает и питается, как фактически утверждает Пригожин? Но тогда почему ее надо называть неживой?
Впрочем, я здесь всего лишь говорю о том, что и без того великое и загадочное слово «история» стало еще более великим и загадочным после того, как обнаружилась историчность неживой, ранее казавшейся совсем инертной, материи. Понимая, что нет окончательного слова, в котором был бы сконцентрирован весь новый смысл, вытекающий из историчности неживой материи, я все же предложил бы пока что, при нынешнем уровне развития науки, оперировать принципом «эмерджентности», согласно которому совокупность взаимосвязанных процессов может обладать свойствами, совершенно немыслимыми в каждом из процессов в отдельности. И никак не выводимыми из суммы свойств отдельных процессов.
Вселенная пронизана Огнем этой эмерджентности. Подчеркиваю — именно Огнем, а не всепожирающей алчностью.
И ничего мы не поймем в ее истории, а также в истории человечества, если откажемся от идеи Огня и попытаемся представить историю как великое всеобщее пожирание разного рода лакомств: энергии, информации, пищи, труда и так далее. Акторы случайно пожирают это (а заодно и друг друга)… На такое пожирание накладывается совокупность железных закономерностей. Глядишь, и история зашевелилась, задвигалась? Извините, это не так.
Если раньше еще можно было по этому поводу сомневаться, то теперь трагизм, содержащийся в отрицании такого понимания истории, обнажился с беспощаднейшей очевидностью.
Что делать с человечеством — вот основной вопрос. Если оно движется исторически с помощью частных случайных конвульсий, накладываемых на общие объективные закономерности, то где движение? Почему оно никуда не движется, это самое человечество? Капитализм цветет и пахнет... Все отдельные слагаемые продолжают свои попытки пожрать друг друга. Объективные закономерности никуда не уходят. А исторического движения нет. Почему? Ведь нельзя назвать историческим движением в полном смысле этого слова... ну, например, Третью мировую войну, в которой бурно растущий Китай начнет отвоевывать некую совокупную пищу у медленно растущих США. Это не история, господа, а также товарищи. Это великое взаимное пожирание. Неужели мы его будем называть историей?
Я понимаю, почему можно назвать историей Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Потому и можно назвать эту революцию историей, что не о пожирании друг друга там шла речь, а о чем-то другом. О том, что почему-то какие-то народы (и прежде всего, конечно, русский народ) воспламенились, причем с невероятной силой, какой-то мечтой. Причем именно мечтой. Способность народа воспламениться великой мечтой — она и только она превращает великое взаимное пожирание в Историю с большой буквы. В собственно человеческую историю. В которой, конечно же, есть место и случайным алчным судорогам, и объективным законам. Только вот свести историю к этому невозможно. Нет Огня — нет истории. Вот вам и та же эмерджентность, но уже совсем на другом уровне. С эмерджентностью наука будет разбираться долго. А вот с Огнем... Тут либо этот Огонь — либо человечество. И это ясно, как дважды два. Не будет Огня — человечество кончится в ближайшие десятилетия. И кому-то очень надо, чтобы оно кончилось. Потому что делается всё для недопущения Огня. Всё, понимаете? Колоссальное количество осуществляемых для этого действий не может носить случайный характер. Когда десять тысяч прямых пересекаются в одной точке, можно ли говорить о случайности?
Но главное даже не в этом. Кому оно нужно, это самое человечество, коль скоро нет Огня, а есть всего лишь направленность, порождаемая суперпозицией конвульсий и фатума? Кстати, если направленность порождается именно этим, то с исчезновением капитализма направленность сведется к нулю. Так ведь? Борьба против капитализма, за коммунизм, является борьбой за Огонь. И против тех, кто его стремится погасить.
Итак, История — это нечто большее, чем великое взаимное пожирание. А значит, это нечто большее, нежели сумма случайных дерганий отдельных частей и объективных закономерностей, вводящих в некую рамку произвол этих дерганий.
Нет Истории без мечты, воспламеняющей огромные человеческие массы, почему-то перестающие случайным образом дергаться и начинающие вести себя совсем иначе. Нет Истории без этого Огня. Без жертвы, без отказа от взаимного пожирания во имя чего-то совсем-совсем иного. Того, что только и оправдывает все остальное. Потому что если есть только всеобщее взаимное пожирание — то, по большому счету, наплевать, к какому именно пункту назначения оно зачем-то волочет человечество. Если только оно его куда-то волочет, то зачем оно нужно, это самое человечество? И ни к чему хорошему такое великое всеобщее пожирание человечество не приволочет. Кроме того, если это самое великое всеобщее пожирание является альфой и омегой, прародителем всего остального, то да здравствует капитализм! Потому что именно он является пока что непревзойденной формой великого всеобщего пожирания.
Чем было бы человечество без христианства, без великих религиозных утопий, суливших нечто большее, чем великое всеобщее пожирание? Вы не хотите подробно ознакомиться с тем, во что превращалось человечество, погрузившееся в трясину великого всеобщего пожирания? Во что оно превращалось в эпоху эллинизма или перед падением Рима? А также при загнивании беспощадных восточных деспотий? Во что оно стало превращаться к концу XIX века? И во что превратилось бы окончательно, если бы не зажегся Огонь Великой Октябрьской социалистической революции? Он ведь не потому зажегся, что импульсы великого всеобщего пожирания особым образом наложились на железные объективные закономерности, правда же? Он зажегся совсем по другой причине. И каждый, кто подробно знакомился с документами той эпохи, это прекрасно понимает.
Как только врагу удалось погасить этот Огонь, человечество снова вернулось в фатум псевдообъективности и великого всеобщего пожирания. И если Огонь снова не зажжется, то возвращение человечества в этот фатум обеспечит окончательный результат. Случайные дергания превратятся в большую конвульсию, по ту сторону этой конвульсии эти дергания либо прекратятся вообще (что, кстати, сделать совсем нетрудно), либо, испуганно затихнув на недолгое время, начнут снова набирать силу, дабы подвести черту под никому не нужной пакостью, состоящей из конвульсий этого самого великого всеобщего пожирания и накладываемых на оное «железных закономерностей».
Итак, одно из двух.
Либо история — это нечто большее, чем конвульсии великого взаимного пожирания, вводимые в рамки определенных объективных закономерностей. Либо нет.
Если нет, то по большому счету свободы не существует вообще. И вы можете сколько угодно тыкать пальцем в частные проявления этой свободы. Частные проявления, возможно, и существуют, а свободы нет как нет, коль скоро нет ничего, кроме конвульсий и объективных закономерностей. Потому что по большому счету в конвульсиях этих свободы нет. А в объективных закономерностях — тем более.
Но тогда вопрос на засыпку: что такое марксова формула «из царства необходимости в царство свободы»? А также «в царство свободы дорогу грудью проложим себе» и так далее? Откуда возьмется свобода эта и ее царство? Из несвободы, основанной на конвульсиях и объективных фатумах? Из этого может взяться все, что угодно, но только не свобода. А значит, опять-таки — либо-либо.
Либо марксистское понимание истории (оно же — исторический материализм) не сводится к суперпозиции случайных конвульсий и объективных закономерностей. Либо в историческом материализме нет никакой свободы. А значит, и никакого смысла. Опять-таки, если речь идет о Смысле с большой буквы.
Я-то как раз считаю, что в марксистском понимании истории есть и свобода, и острейшее переживание фундаментальной коллизии Огня, и многое другое. Но если начетчики от марксизма хотят нас убедить в том, что это не так, то нам остается выбрать между этими убеждениями и таинствами. Такими, как Великая Октябрьская социалистическая революция, как великие обновления человечества, выводившие его из того чудовищного оскотинивания, в которое оно попадало, подчиняясь гибридам прихоти и фатума, во всем подобным упрощенной, кастрированной версии исторического материализма.
А если мы признаем наличие Огня как чего-то качественно более высокого, чем сумма прихоти и фатума, то мы должны признать и наличие чего-то более низкого, чем все та же сумма прихоти и фатума.
Три уровня есть в истории.
Первый — уровень Огня.
Второй — уровень, на котором на первое место выступает сумма прихоти и фатума, она же направленность, регулируемая законом взаимного пожирания.
Третий — уровень антиогня. То есть уровень, на котором осуществляются действия, направленные на погашение Огня. Окончательное погашение Огня — а именно во имя этого ведется сейчас тихая, но беспощадная мировая война, которую мы исследуем и в которой мы участвуем, — до конца разложит человечество в трясине великого взаимного пожирания. А потом избавит человечество либо от необходимости длить такую мерзость, как жизнь без Огня, либо же от случайных конвульсий, выдаваемых за свободу. Прекращение бытия человеческого или железная пята — вот варианты, которые возможны в случае окончательного погашения Огня. Война идет за это. За то, будет ли погашен Огонь или он опять воспылает. И это не патетика — это реальное содержание той жизни, которой мы все живем.
II.
Жизнь не может быть лишена содержания. Содержания могут быть лишены те рассуждения по поводу жизни, которые я постоянно читаю «по долгу службы», знакомясь с откровениями Иноземцева, Павловского и других. Содержания могут быть лишены лишь такие интеллектуальные фокусы — исполняемые либо по заказу, либо на потеху публике, либо просто потому, что положение обязывает.
Но для того, чтобы эти фокусы были полностью лишены содержания, они должны не иметь никакого отношения к жизни. Примерно так все и происходит.
Сначала фокусник разрывает все, что связывает его с жизнью. Вообще с жизнью. А главное, с той жизнью, содержание которой он должен выявлять и обсуждать по роду профессии. Разрывая все отношения с жизнью, фокусник одновременно разрывает и все отношения с профессией. Именно тогда он и становится фокусником. А потом, паря над жизнью, огородившись от нее, потеряв к ней всякий интерес, фокусник исполняет фокусы. Поскольку фокусов исполняется очень много, то они, сплетаясь, образуют нечто наподобие второй реальности. Театральные педагоги, особо далекие от жизни, особо яростно вдалбливали студентам, что знание жизни есть основа творческого взаимодействия между актером и режиссером. Студенты уважительно кивали головами, а в коридорах издевались: «Жизни совсем не знаешь! Когда в театре последний раз был?»
Читатель, наверняка, понимает, что для меня эта адресация к театру — не более чем метафора. Увы, я знал людей, которые занимались вовсе не театром, а вещами гораздо более серьезными и опасными... Эти люди подробно инструктировали телевизионщиков о том, что именно они должны показать на экране. Потом смотрели телепередачу и говорили: «Вот ведь какова жизнь!»
А откуда, в принципе, властитель узнает, какова жизнь? Из поездок по стране? Из аналитических записок? Гарун аль-Рашид, помнится, для того чтобы узнать, какова жизнь, переодевался и ходил на базары. Но он был уникумом, и эпоха была другая. Между жизнью и теми, кто должен ей служить в силу своей профессии, толстый слой суждений, оценок и прочей интеллектуальной продукции. Даже если получаемые сообщения не содержат в себе особых умствований и состоят из более или менее доказанных фактов — они все равно не более чем сообщения. Они не есть сама эта жизнь.
Возникает несколько достаточно нетривиальных проблем.
Кто, к примеру, сказал, что властитель (или, если кому-то так больше нравится, политический лидер) должен служить жизни? Герой романа Германа Гессе «Игра в бисер» в конце романа заявляет, что он будет служить жизни. И тут же гибнет. Потому что служить он должен был не жизни, а игре. И чем более ревностно он служит игре, чем более изощренно он способен играть — тем дальше он от жизни. И тем более он эту жизнь... не то чтобы презирает, а так... Впрочем, иногда он именно презирает — не только простую жизнь, но и жизнь вообще. И тогда смысловой осью его политической деятельности становится именно эта нелюбовь к жизни. Рано или поздно приобретающая чуть ли не воинственный характер. А что такое нелюбовь к жизни, приобретшая воинственный характер? Это любовь к смерти.
Абстрактные умствования? Полно! Конец 90-х годов ХХ века. Приезжаю к одному из российских элитариев, твердо уверенному, что он является демиургом политического процесса. Прежде всего, бросается в глаза то, как ведет себя охрана. Не по отношению к приехавшему — а по отношению к хозяину. Когда охрана говорит, «Да кто он такой, хозяин? Да нам лучше знать, что делать! Да пошел он на три буквы!» и так далее — дело скверно.
Но оторванный от жизни элитарий, преисполненный предельного самодовольства, говорит мне: «Ты недостаточно демократичен! В тебе живет восточный дух! Ты хочешь, чтобы они тебе кланялись! А я вот демократичен по-настоящему». Сказавши это, элитарий добавляет с издевкой: «Давай я сейчас эту охрану выстрою перед тобой, и они все тебе будут кланяться в ножки».
На этом кончается первая серия трагического политического спектакля под названием «уход от реальности». Далее начинается вторая. Элитарий хочет снять о себе фильм. И снять он его хочет не абы как, а в беседке. Попивая при этом чай с вареньем. На варенье, натурально, слетаются осы, причем в огромном количестве.
Элитарий тут же демонстрирует свою демократичность. Он в разнузданно-матерном стиле требует от дворни, чтобы она избавила его от ос. Дворня начинает исполнять номера. Ничего более потешного себе невозможно представить. Дворня потешается, телевидение потешается, даже осы, и те, можно так сказать, потешаются.
Наконец, элитарий обнаруживает, что справиться с осами невозможно ни с помощью ароматических воскурений, ни с помощью полотенец, ни как-либо еще. Что жизнь сильнее его умственных построений. Что она не хочет выполнять его предписания. Тогда он впадает в ярость. И вместо того, чтобы перейти в защищенное от ос место, посылает на три буквы и телевидение, и вообще всю эту гадскую жизнь.
Вначале я лицезрею довольного, спокойного человека, объясняющего мне, сколь я недемократичен и неспокоен. Потом я вижу глубочайшего психопата, готового сорваться из-за любой мелочи, проявляющего вопиющую антидемократичность и просто отсутствие всяческого присутствия.
А потом оказывается, что человек не может сопоставить несколько простейших жизненных фактов. Что он настолько отстранился от реальности, что неспособен даже к элементарным логическим рассуждениям. А когда одно из этих рассуждений все же проникает в его мозг... О, какой тут Шекспир!.. Тут, знаете ли, и Эсхил бы капитулировал, сказав, что подобное словами не выразишь. Скрежетания зубовные... Мышечные судороги... Чуть ли не катание по земле... И все это порождено элементарнейшим соприкосновением с жизнью. Каков же перед этим был отрыв от нее? И какова природа этого отрыва? Человек сам так от жизни отстраняется? Его так отстраняют с далеко идущими целями?
Неопытность зарвавшегося постсоветского элитария? Как бы не так!
Конец 80-х годов ХХ века. Приезжаю в кабинет умного и милого человека, занимающего очень высокое место в партийной иерархии. Девять часов вечера. Мой собеседник говорит: «Слушать Вас я еще могу. А говорить нет. У меня сегодня было девятнадцать встреч». Я спрашиваю: «А кто составляет ваше расписание? Вы не знаете, что составление такого расписания именуется созданием конвейера?» В ответ молчание.
О чем бишь я? А вот о чем. Что такое эти вторые реальности, в которых нет ничего от жизни, и которые предъявляются вместо жизни людям, обязанным любой ценой сохранять каналы взаимодействия с этой самой жизнью? Это сетка, случайно сплетаемая фокусниками? Или это сеть, накидываемая загонщиками на того политического зверя, который заказан этим загонщикам в качестве очередной жертвы?
В своей короткой работе о Герцене Ленин писал: «Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа».
Здесь Ленин использует невероятно точное и богатое слово «страшно». Он ведь мог бы сказать «очень далеки». Но он говорит «страшно далеки». Потому что он прекрасно понимает, каковы последствия подобной далекости. Эти последствия страшны и для народа, и для тех, кто вошел в политику, не обеспокоившись о главном — о связи с реальной жизнью, она же связь с народом.
Потому что реальная жизнь прячет свою историческую сокровенность в народной толще. От того, что вы отбросите аналитические бумаги и статистические сводки и выйдете на улицу, мало что изменится. Во-первых, на какую улицу вы выйдете? На Арбат? Ну, и так далее. Какой базар вы посетите? В каком ресторане постараетесь соприкоснуться с реальной жизнью? Не зря в народе говорят: «С кем поведешься, от того и наберешься».
Но даже если вы почему-либо захотите соприкасаться с жизнью не в бутике, не у ресторатора Новикова, а на каком-нибудь Дорогомиловском рынке, эксперимент закончится неудачей. Потому что рынок — это еще не народная жизнь. Потому что всегда есть то, что Мигель де Унамуно называл «интраисторией», противопоставляя это сокровенное нечто поверхностной «экстраистории», которая может быть сколь угодно народной, но сокровенности в себе не содержит.
А как только мы говорим о сокровенности, мы снова, уже под другим ракурсом, начинаем обсуждать все ту же тему Огня.
Поразительным образом построения Мигеля де Унамуно, в которых тема Огня обсуждается под углом соотношения интра- и экстраистории, совпадают и с тем, что маячит за робкими пока еще размышлениями по поводу эмерджентности, и с данными наук, занимающихся так называемыми сверхсложными системами. Оказывается, что все такие сверхсложные системы состоят из ядра и периферии. Что периферия — а также мембраны, которые отделяют ее от ядра — специально выстроены определенным образом для того, чтобы защитить ядро. Что процессы в ядре протекают иначе, чем на периферии. Что это касается и строения клетки, и архитектуры интеллектуальных систем, и многого другого.
Враг пытается сокрушить такую сверхсложную систему, как общество. Но он, вторгаясь в систему, задевает только ее периферию. При этом системе могут быть нанесены глубочайшие повреждения. Но если ядро не будет задето, то система займется самовосстановлением. Потому-то такие враги России, как Анатолий Ракитов, требовали не просто подавления определенных реакций системы, которую они именовали «Русской цивилизацией». Они требовали разрушения ядра этой системы. То есть, конечно же, они говорили о смене ядра. Но имели в виду именно его уничтожение. И перечисляли все средства, с помощью которых этого уничтожения можно добиться.
Чего, по большому счету, добивались Ракитов сотоварищи? Погашения Огня, вот чего. Потому что неразрушенное русское ядро содержит в себе Огонь, невероятно ценный для человечества. А как только ядро будет разрушено, этот Огонь погаснет. И не факт, что вместе с ним не погаснет Огонь вообще. Вот почему Ракитовы всех мастей так яростно добирались до ядра. Они до Огня добирались на самом деле!
К концу 90-х годов ХХ века Ракитовы и их хозяева поняли, что добраться до ядра системы не удалось. И что система начинает самовосстановление. Тогда они стали истерически требовать расчленения на части государства. Мол, если не удалось обеспечить деструкцию на глубинном уровне, уровне этого самого ядра, тудыть его растудыть, то давайте будем расправляться с Россией более грубым, но гарантированным способом. Через расчленение и оккупацию.
Поразительное место в этих действиях врага занимает проблема модернизации. Ведь и Ракитов говорил о том, что модернизация обеспечит смену ядра... Или смена ядра обеспечит модернизацию… Тут он, знаете ли, несколько путался. И после него говорили о том же самом. Возьмем, к примеру, десоветизацию-десталинизацию в том варианте, который предлагали господа Федотов и Караганов в 2011 году. Зачем нужна была такая десоветизация-десталинизация? Именно для поражения ядра системы. И никто даже особо не скрывал, что цель именно такова.
Потому что в параллель с заходами по поводу категорической необходимости десталинизации-десоветизации для модернизации России осуществлялись и другие заходы. Ну, например, по поводу несовместимости русской культурной матрицы с модернизацией. А также по поводу несовместимости с модернизацией самого русского духа, который по отношению ко всем модернизационным ценностям является не просто косным — он является «духом-мутантом». Так-то вот.
Впрочем, для того чтобы понять, о чем идет речь, надо было внимательно послушать, как именно выступал Сванидзе на передачах «Суд времени» и «Исторический процесс». А еще с особой внимательностью отнестись к выступлениям Пивоварова. Который доводил до конца идеи Сванидзе. Вскоре оказалось, что эти же идеи (Александр Невский — это такой же исторический мутант, как и Сталин; Петр I такой же исторический мутант, как и Сталин, и так далее) впаривает читателям и слушателям бывший патриот Александр Невзоров.
Война с историей вообще, с народной интраисторией, с культурной матрицей (она же совокупность социокультурных кодов, а значит, ядро системы) — это война является именно войной с Огнем как таковым. По этой причине данную войну можно называть абсолютной, метафизической! Война с Россией — это война с Огнем. Война ведется с настойчивостью и последовательностью, которые делают честь врагу. Видимо, очень хорошо понимающему, что уничтожить Огонь можно, только уничтожив Россию. Понимая это, враг ведет войну против России на всех фронтах. Но цель войны — не только уничтожение России. Цель войны — именно уничтожение Огня. И потому, повторяю, нынешняя война так метафизична, как никакая другая.
III.
Живем ли мы и впрямь в условиях подобной войны?
Этот вопрос я хочу задать всем, кто понимает, чем чреват уход от реальности. Подчеркиваю, любой уход от нее — в сферу тех или иных построений. И тут в очередной раз — либо-либо!
Либо факт такой войны как раз и является объективной реальностью, данной нам в ощущениях.
Либо мы создаем миф о такой войне, а на самом деле происходит нечто другое.
Мне могут сказать, что создание мифов — дело почетное, полезное, а в чем-то даже обязательное. Но я твердо заявляю, что никогда не буду заниматься построением каких бы то ни было, сколько угодно полезных и нужных мифов. Что если мне кто-то докажет, что наша реальность не пронизана этой самой войной, всеобъемлющей и беспощадной, то я тут же откажусь от разговоров о войне. И буду добиваться одного — чтобы мне объяснили, чем же на самом деле пронизана наша реальность. Если происходящее не есть война, то чем тогда оно является?
Повторяю — либо реальность, в которой мы живем, то бишь наша жизнь, является такой беспощадно ведущейся войной, о чем мы и говорим с первого номера газеты «Суть времени». И тогда воистину — все для фронта, все для победы!
Либо все происходит как-то иначе. И тогда мне должны внятно разъяснить, как именно. И я не буду шарахаться от этих разъяснений, именовать разъясняющих идеологическими врагами. Но пока что я ни от кого не получил никаких сведений, позволяющих усомниться в том, что враг ведет войну с Огнем, она же война с Россией. И напротив, чуть ли не каждый день мы получаем новые сведения, говорящие о том, что речь идет именно о такой — беспощадной, многомерной, последовательной и блестяще спланированной — и, между прочим, абсолютной войне.
Ишь ты, мифы!
Сотни раз я находился в сложнейших ситуациях. Требовался точный выбор стратегии и тактики. Ошибка была чревата не только издержками, но и крахом. Каждый раз я принимал решения исходя из того, что ведется война. Причем именно тотальная, многомерная, беспощадная. И именно на основе этой методологии я избегал раз за разом краха. А также мог кое-что сделать, оберегая от окончательного краха страну.
И в 1991-м, и в 1993-м, и в 1996-м, и в 1998-м, и в 2000-м, и в 2005-м, и в 2008-м, и в 2011-м я действовал исходя из этого. Но если мне убедительно покажут, что войны нет, что она мне примстилась, и что на самом деле происходит что-то другое, то я благодарно пожму руку тому, кто это показал. И соответствующим образом скорректирую стратегию и тактику действий. Потому что — коль скоро ты занимаешься политикой — жизнь должна быть для тебя превыше всего. И жить ты должен в настоящей реальности, а не в особой трехмерной сетке, сплетенной из необязательных интеллектуальных фантазий, которые почему-либо греют твою уставшую душу.
Война — это реальность? Да или нет?
Если она реальность — то из этого вытекает очень и очень многое. Например, наличие штаба или штабов, ведущих войну. Нет войны без штаба. И нет штаба без войны. Для того чтобы предельно заострить ту мысль, которой я делюсь с читателем, предложу ему два заявления (А и Б), вложенные мною в уста некоего высокопрофессионального военного топографа.
Заявление А: «Меня в силу моей профессии интересуют не ваши штабы, а рельеф местности, без тщательного картографирования которого война будет проиграна».
Такое заявление я считаю вполне допустимым. С одной лишь оговоркой — а зачем ломиться в открытую дверь? Занимайтесь себе, сколько хотите, военной топографией. Но не проблематизируйте в достаточно сложной ситуации вопрос о штабах, организующих войну против нас. Тем более что если речь идет об обычной войне, то факт войны налицо. И никто не будет, проблематизируя наличие штабов, проблематизировать войну как таковую. Раз есть война, то есть штабы. Точка. А вот если война идет неочевидная, то любая проблематизация наличия штабов — даже осуществляемая в косвенной форме — является заодно и проблематизацией наличия войны. И тем не менее, я считаю заявление А вполне совместимым с духом и содержанием нашей общей работы по преодолению наличествующего пагубного состояния реальности.
Ну, а теперь заявление Б, которое я вкладываю в уста все того же условного военного топографа: «Честно говоря, я считаю, что происходящее никакого отношения к войне не имеет. И не желаю скрывать свою точку зрения. Но поскольку ваш тезис о войне, при всей его ошибочности, мобилизует усилия, в том числе и в направлении, интересующем меня как военного топографа, то рассуждайте, пожалуйста, о штабах и войне, сколько хотите. Только избавьте меня от участия в этих рассуждениях. Я от них мягко отмежуюсь. Потому что знаю, что никакая война не ведется, а имеет место нечто совсем другое».
Возникает вопрос: что значит «отмежуюсь»?
Следом за ним тут же возникает второй вопрос: а зачем отмежевываться публично?
Далее возникает третий вопрос: если вся невероятно трудная работа организуется вокруг определенного консенсуса, каковым является наличие данной войны как реальности, если этому посвящена газета «Суть времени» и деятельность организации «Суть времени» — то зачем это проблематизировать в рамках осуществляемой деятельности? Как бы мягко ни осуществлялась такая проблематизация, она не может не нанести удара по деятельности. Более того, если уж речь идет о политической честности, о беспокойстве за будущее общего дела, то зачем нужны мягкие проблематизации? Почему не предпочесть им споры в рамках закрытого семинара? Собрались... Поспорили... Убедились в том, что война имеет именно абсолютный характер — и подвели черту под разного рода интеллектуальными изысками.
Разве не этот принцип товарищеского обсуждения обеспечивает и демократичность, и предельное сплочение наших рядов? То есть именно то, что нам нужно.
Нам очень нужна правда о ситуации. Вся правда, только правда и ничего кроме правды.
Для меня эта самая правда настолько важнее всего остального, что на фоне такой большой и крайне необходимой исторической правды личное эго и впрямь становится величиной микроскопически малой.
Считаю необходимым дать жесткое и в чем-то даже прагматическое объяснение причин, порождающих такую микроскопичность всего, что связано с эго.
Уже четверть века я воюю потому, что считаю войну реальностью. Реальностью беспощадной и всеобъемлющей. Я наступаю на горло собственной песне именно потому, что в этом убежден. То есть я убежден в том, что рано или поздно Россию будут бомбить, что ее ждут вторжения, мятежи и прочие пакости. Что ее не оставят в покое. Что в моих силах — при крайнем их напряжении — помешать окончательной гибели России, ее порабощению, ее оккупации и так далее.
Если всего этого нет или, точнее, если это является сетью, сплетенной из моих изящных фантазмов, второй реальностью, в которой я живу, отстраняясь от реальности первой и главной, то у меня возникает сразу два желания.
Первое — разорвать цепь ложных, пусть даже сколь угодно изящных фантазий и погрузиться в реальность, сколь бы ни была она отличной от этих фантазий.
Второе — если уж война не идет, то не гробиться беспредельно. И уж тем более не гробить других, призывая их к предельной мобилизации по причине погружения Отечества в стихию беспощадной тотальной войны нового типа. Потому что когда ты гробишься ради сопротивления тому, что имеет место, — это называется жертвой. А когда ты гробишься во имя фантазий, то это называется самоедством. Если же ты гробишь не только себя, то это называется людоедством.
Хорошо людям, которые считают, что мы кремлевский проект. Как сказал герой Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!». Тем, кто считает нас кремлевским проектом, все ясно. Нам-де, мол, заказан миф о войне. Мы знаем, что это миф, но гробимся, потому что исполняем заказ.
Но мы-то знаем, что это не так. Знаем также, что у конкретных людей, которые гробятся, в жизни есть чем заняться. Причем — коллективно. Ну, там, театром... высшими смыслами... религиоведением... теорией систем... продвинутыми исследованиями... трансдисциплинарными исследованиями и так далее.
И если мы вместо этого занимаемся войной, то только по одной причине. Мы не хотим быть жалкими, беспомощными жертвами к моменту, когда враг приступит к окончательному решению русского вопроса. И мы не хотим быть подлецами, покинувшими Россию, где враг будет подобным образом хулиганить, и занимающимися в Гималаях или где-нибудь еще разного рода высшими и высочайшими смыслами.
Продолжение следует.