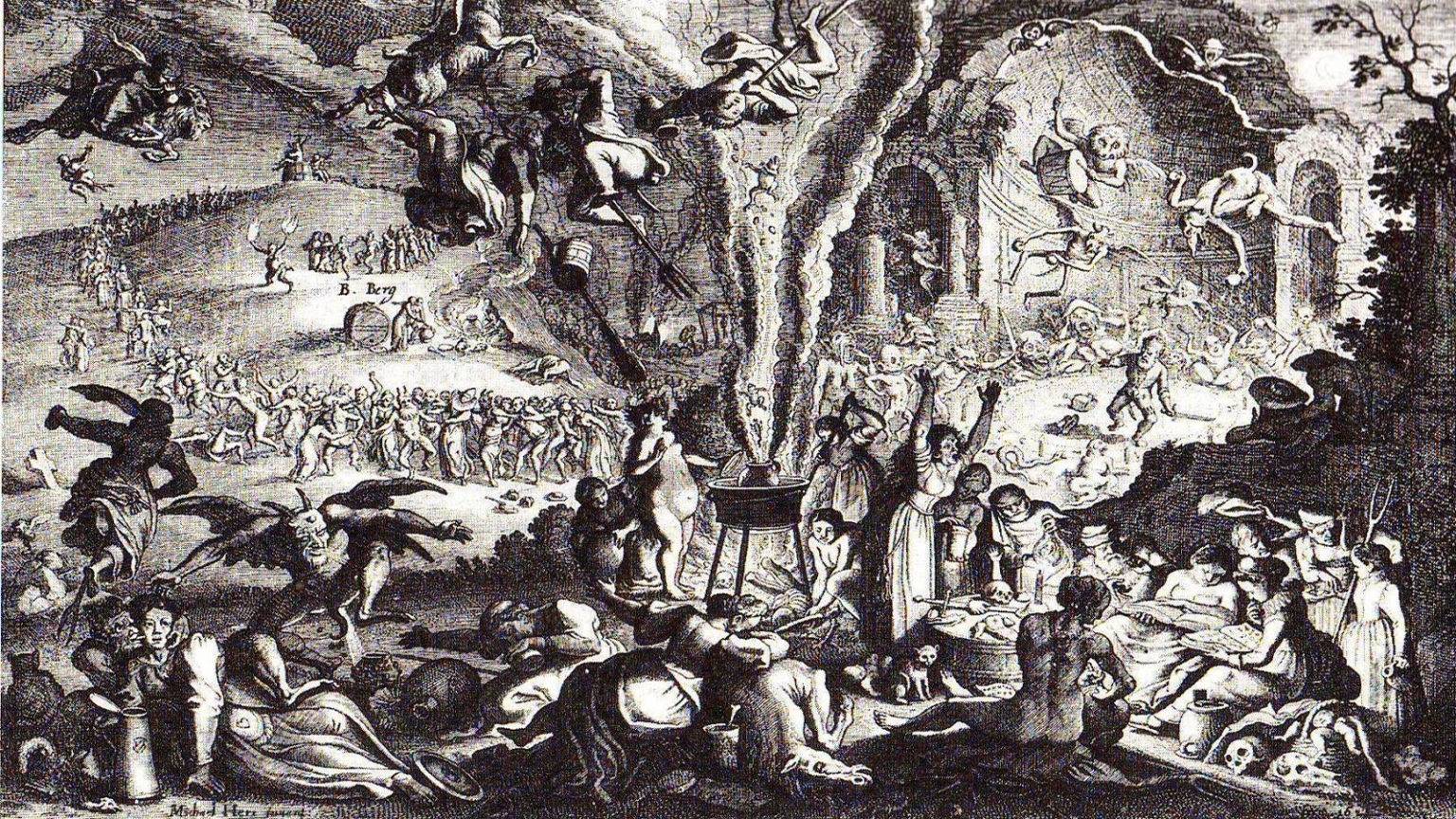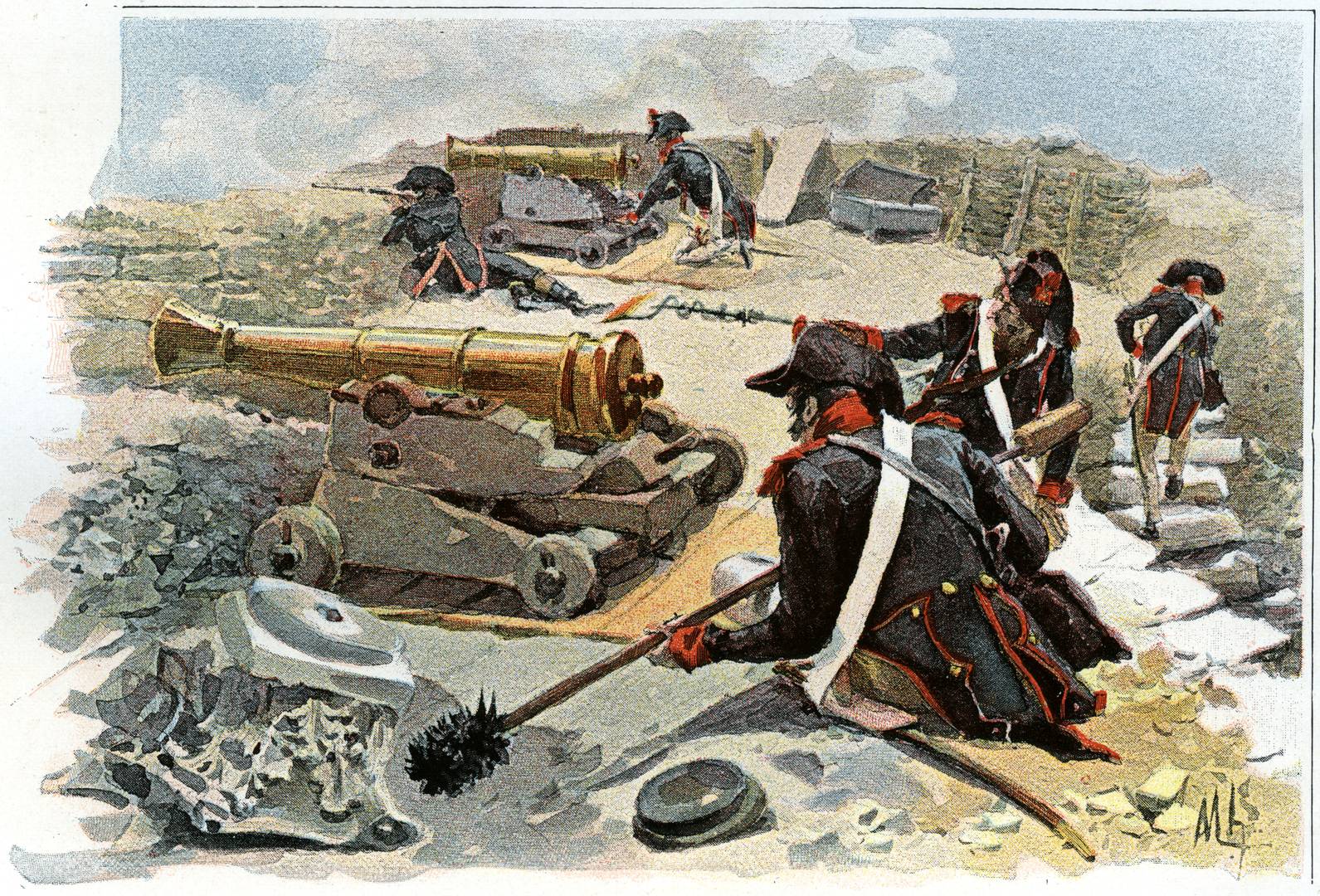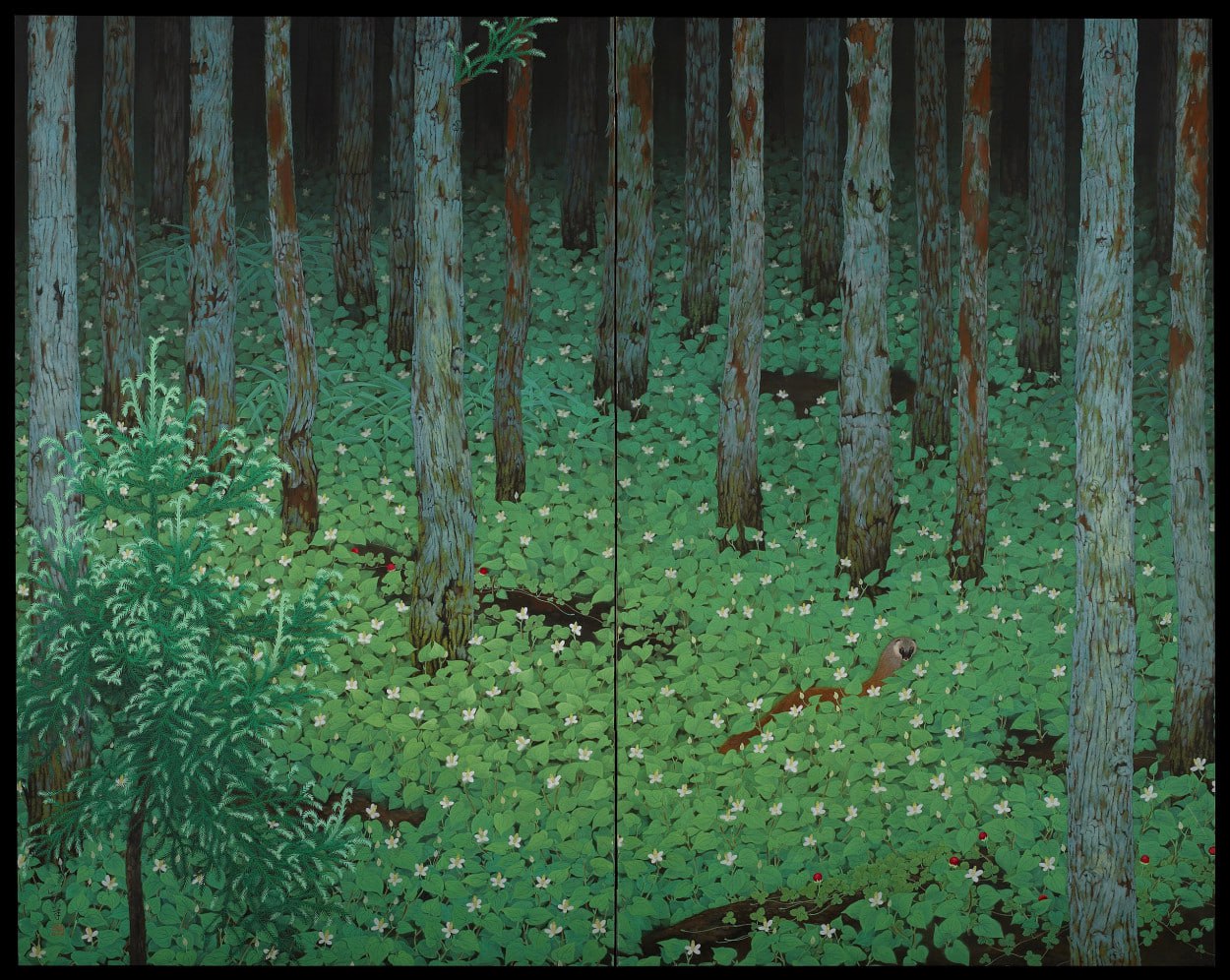Мысли о парагвайском эксперименте
Исследуя в своей статье вопрос человеческого взросления, принятия человеком ответственности за судьбу мира, Сергей Кургинян рассматривает описанную Достоевским в притче о Великом инквизиторе модель противодействия такому взрослению. А также конкретный пример реализации этой модели на определенной территории. Это государства-резервации, организованные иезуитами в Парагвае. Этот исторический пример, очень поразивший меня в свое время, и теперь не дает покоя. И вот почему. Довольно много приходилось слышать или читать в интернете мнения об этом проекте. И, как это было отмечено в статье, некоторые считают, что иезуиты дали красноречивый пример воплощения христианского коммунизма. Причем люди, которые об этом говорят, как правило, являются сторонниками коммунизма в целом и Советского Союза в частности, а также стоят на стороне христианства. Как вариант, может высказываться замечание к советской системе, что, мол, «она отрицала Бога и потому прожила вдвое меньше иезуитских государств, причем последние и не развалились бы__, если б не беспрецедентное давление со стороны Лиссабона и Мадрида».
Да, государства иезуитов имели невероятную внутреннюю устойчивость и могли бы в принципе просуществовать сколь угодно долго. Но вот насчет христианского коммунизма... Детище иезуитов не было ни коммунистическим, ни истинно христианским. С позиций коммунизма проект иезуитов критиковали многие марксисты. Известный теоретик марксизма и социал-демократический политик Карл Каутский в статье «Государство будущего в прошлом» говорит о государстве иезуитов как о «хитрой организации для целей эксплуатации». Поль Лафарг в своей книге «Иезуитские республики» также отрицает какую-либо коммунистичность государств в Парагвае, считая их прямо капиталистическими, где люди «прозябали в равных для всех нищете и невежестве, несмотря на процветание земледелия и промышленности, несмотря на колоссальные богатства, созданные их трудом». Известный российский и советский экономист и историк Владимир Святловский, изучавший парагвайский эксперимент, делает вывод о методично осуществлявшемся там «умерщвлении духа». Вот что он пишет: «Вся жизнь от колыбели до могилы была распределена и планомерно размерена; скромная и спокойная жизнь, систематическая упорная и полезная работа создавали спокойное, сытое, более зажиточное в общей массе и предусмотренное заранее благополучное существование. Бедности, страданий от лишений и голода, зависти к первенству в Парагвае действительно не было. Весь коллектив в целом бесспорно благоденствовал. Эти положительные результаты смели дух вольности и создали в конце концов известную привязанность обезличенной и сытой паствы к своим руководителям».
О чем здесь речь? По-моему, Святловский, живописуя эту застывшую, омертвелую и сытую жизнь, явно говорит о неразвитии, царившем в созданном иезуитами мире. И коль скоро коммунизм — это всеобщее развитие и восхождение, то в проекте иезуитов этим даже не пахнет. Да, иезуиты научили индейцев ремеслам, основам неведомой им ранее культуры, но законсервировали их в этом состоянии. Ведь ни один даже самый одаренный индеец не стал и не мог стать наравне с иезуитом — это была непреодолимая преграда! Иезуиты стояли недосягаемо высоко над всеми. Такой аналог прогрессоров, описанных Стругацкими. Стоит упомянуть, что основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола повторял, что иезуит «должен стать всем для всех, чтобы овладеть душами всех». Так вот, иезуиты «стали всем для всех» индейцев и завладели их душами. А завладев, обрекли эти души на сон.
Что же касается критики с позиций христианства, то здесь предельно конкретно все сказал Достоевский. В его притче Великий инквизитор признается Христу, что давно уже не с Ним, а именно с тем, кто Христа искушал. И этим Достоевский проводит главную черту, разделяющую христиан и нехристиан — одни вместе с Христом и стараются приблизиться к Нему, другие — нет и все больше отдаляются. Ведь можно даже восхищаться Христом или действовать, как говорили как раз иезуиты, «к вящей славе Господней», но при этом с Ним не быть.
Несмотря на разительное сущностное отличие коммунизма от затей в духе парагвайского эксперимента, есть и весьма существенное поверхностное сходство, касающееся в основном материальной стороны бытия: жизнь по принципам коммуны, отсутствие частной собственности, справедливое распределение благ. Но если эта видимая материальная сторона очень хорошо заметна, то духовная, основная, — видна не всегда и не всем отчетливо и, честно говоря, не всем понятна. И получается, что на этом внешнем сходстве можно играть, уводя людей с одного пути на совершенно противоположный. Разве кто-то может отрицать, что и в СССР с некоторых пор начало проявляться нечто, имеющее запах парагвайского проекта. И это что-то накапливалось, как яд. Яд патернализма, ослабления ответственности за проект, за страну и за историю. И если говорить христианским языком — яд подмены слова и дела Христа.
У Владимира Соловьёва, русского религиозного философа, писателя и поэта, есть на эту тему одно интересное произведение — «Краткая повесть об Антихристе». В нем Соловьёв описывает свое представление о времени воцарения Антихриста на Земле. Он приводит следующие его рассуждения, когда тот сравнивает себя с Христом: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но правда не воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно».
И по Соловьеву все это ему почти удается. В одном из заключительных эпизодов Антихрист, по сути, подчиняет христиан, расспрашивая их и великодушно утверждая все то, что они сами считают для себя важнейшим в христианстве. Лишь несколько человек отвечают, что для них всего дороже сам Христос, и этим срывают маску с искусителя. Антихрист у Соловьева, как и Великий инквизитор у Достоевского, стремится подобным же образом «исправить» подвиг Христа. И люди воспринимают это как благо и возносят его. Но что же, разве это так трудно представить в нашей сегодняшней реальности, в мире, погрязшем в войнах и распрях? По-моему, очень легко!
Вопрос, поднятый Достоевским, имеет важнейшее и актуальное значение по поводу всего того, что касается возможностей соединения христианства и коммунизма. И продолжая тему стремления некоторых сил подменить коммунизм псевдокоммунистическим суррогатом, вспоминается один эпизод периода зарождения в Латинской Америке теологии освобождения. И связан он опять с иезуитами. Известный советский разведчик и писатель, специалист по истории Латинской Америки и Католической церкви Иосиф Григулевич в своей книге «Мятежная церковь в Латинской Америке» описывает среди прочего расстановку сил в преддверии Второго Ватиканского собора 1962–1965 гг. Этот период в целом характеризуется тем, что официальная Католическая церковь, ранее выступавшая крайне против любой формы революционных изменений, в середине XX века осознала, что ситуация в Латинской Америке доползла до такого состояния, что революция просто неизбежна, и весь вопрос остается только в том, что это будет за революция. Причем основное и весьма обоснованное опасение церковных иерархов было именно в том, что все двинется в сторону коммунизма. Церковь разделилась на прогрессивную составляющую — так называемых обновленцев и на католических ретроградов — так называемых «бешеных». Первые выступали за новый курс, новую социальную программу, за наведение каких-то мостов с коммунистами. Вторые были готовы продолжать отстаивать свой отживший «Силлабус», выступать против явных научных достижений и, как прежде, занимать явно антикоммунистическую позицию. Но самое интересное не в этом. Григулевич говорит, что и в лагере обновленцев произошло деление. Меньшая часть из них действительно начала стремительно и искренне сращивать революционный марксизм с накаленной религиозной революционностью. И, собственно, она дала жизнь и развитие теологии освобождения. Другая, большая часть обновленцев, представленная в основной своей массе членами ордена иезуитов, была как бы рядом и тоже высказывалась за революцию, трезво понимая, что «революция в Латинской Америке произойдет с нами или без нас, но если она произойдет без нас, она будет против нас». Но эта часть явно имела другие цели и, готовая учиться у коммунистов, вовсе не спешила принять коммунизм. Иезуит Хуан Пабло Герра говорил: «Было бы тактически более опасным ожидать, пока другие совершат революцию, а потом примкнуть к ней, чем совершить ее католикам». То есть они хотели возглавить социальные перемены. Аббат Ф. Утар и иезуит Э. Пэн предлагали следующие доводы: «Люди — реалисты. Их можно убедить не рассуждениями, а действиями... Мы будем весьма далеки от евангелизации, пока не займемся индивидуальными и коллективными заботами окружающих нас людей. <...> Чем может привлечь людей католическая церковь? Участием церкви в «социальной революции», т. е. в глубоком преобразовании структур общества — общества несправедливого, ибо оно не в состоянии обеспечить существование и благосостояние своих членов». Некоторые иезуиты напрямую призывали правящие круги принять революционную реальность и взять ее под контроль. Другие возлагали большие надежды на христианские профсоюзы, отстаивающие права рабочих. В общем, куча разных прагматичных способов успокоить «слабосильного бунтовщика».
В свою очередь настоящие христианские марксисты, сторонники и развиватели теологии освобождения — все почти в один голос заявили свою приверженность именно пути Христа. Достаточно вспомнить слова Уго Чавеса, называвшего Христа революционером, повстанцем, «одним из наших». Собственно, одним из главных обвинений в адрес теологов освобождения является обвинение в искажении общепринятой христологии.
Конечно, сторонники теологии освобождения правы в революционности Христа. Однако представляется, что сделав Его в большей мере борцом за бедных, они как бы убрали на второй план настоящий пафос революционности Христа — борьбу за нового человека. Сейчас теология освобождения в Латинской Америке претерпевает некоторый кризис, что видно хотя бы по внутренним разногласиям в их рядах. Быть может, они его преодолеют и станут сильнее и тверже. Но нельзя быть уверенным, что здесь не проявилось влияние того самого иезуитского большинства с его стремлением канализировать подлинный коммунизм.
Нам еще только предстоит выстраивать отношения с нашей Православной церковью по главному вопросу — проекту будущего. А поэтому то, что сказано Достоевским и Соловьевым, что обсуждено на примере парагвайских иезуитских государств, а также то, что мы видим в опыте теологии освобождения, представляется невероятно важным. Ведь все эти картины и примеры наводят на мысль, что совсем рядом с проектом, ведущим человека наверх, всегда был, есть и будет его абсолютный враг, притворяющийся похожим и только ждущий удобного момента дернуть рычаг и перевести стрелку путей. А это значит, надо быть начеку!