Семья глазами актера, или Как довериться себе и начать сопротивляться
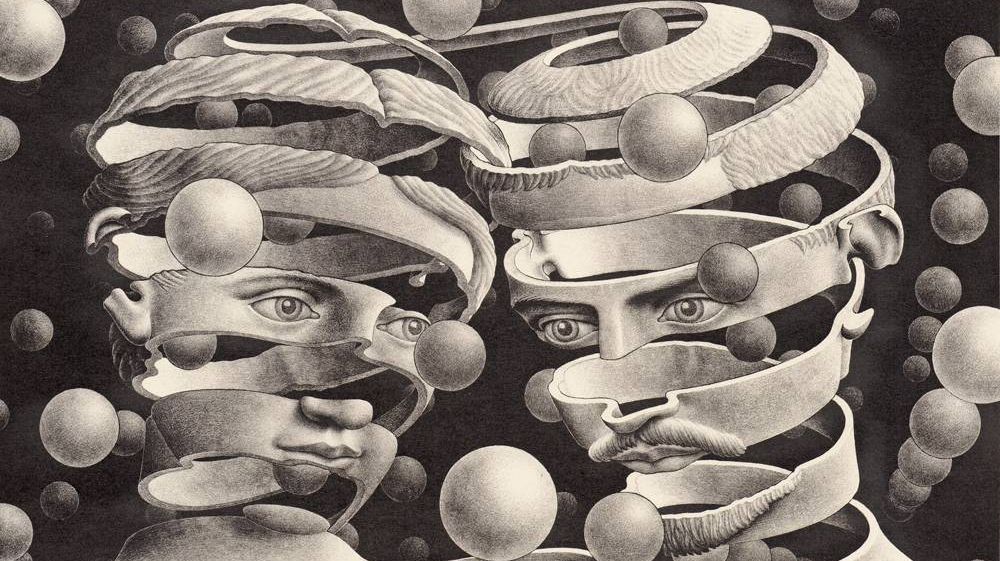

В то время, как весь мир борется с коронавирусом, а миллионы наших соотечественников заперты дома, вопрос о бытии-в-семье начинает звучать с той же остротой, с какой для философа Мартина Хайдеггера звучал вопрос о бытии-в-мире. Чем больше времени проводят вместе мужья и жены, отцы и дети, тем более суровым испытаниям подвергаются самые близкие отношения, которые только могут существовать между людьми.
Примет ли российская семья на себя те нагрузки, бремя которых вот-вот превысит единоличные силы наших сограждан? Должна ли она для этого вернуть себе статус «ячейки общества», чему нас учили в советские годы, или перевоплотиться в нечто большее, чтобы не рассыпаться при первом серьезном вызове? И как сделать так, чтобы в решающий момент она не обернулась постылым союзом двух одиночеств, которые, подобно героям стихотворения Рильке, «скорбно и сиротливо» делят «одну постель и ненависть»?
Известный актер и режиссер Александр Валерианович Негреба уже не в первый раз беседует с нами. Наш январский разговор с постановщиком «Короля Лира» о семейной подоплеке великой шекспировской пьесы показался нам настолько важным и интересным, что нам, с позволения собеседника, очень захотелось его продолжить. О судьбах мировой драматургии, борьбе со смертной болезнью и семье как очаге экзистенциального сопротивления читайте в очередном интервью Александра Валериановича ИА Красная Весна.
Читайте также: «Семья — это неизбежность», или О чем писал Шекспир в «Короле Лире»
ИА Красная Весна: Вы неоднократно отмечали, что вся мировая драматургия — от «Антигоны» Софокла и до Шекспира с Чеховым — в значительной степени держится на семейной теме. Хотелось бы, чтобы Вы, как драматург и режиссер, знакомый с этими произведениями не понаслышке, развернули свой тезис.
— Я не хочу подражать ранним экзистенциалистам, но человек движется в пределах мифа. Если мы адресуемся к Антигоне, Прометею, Андромахе, если мы говорим о «козлиной песне», из которой родилась греческая трагедия, то стоит вспомнить и Гесиода.
По преданию, Гесиод, воспевавший труды и мирную семейную жизнь, победил в поэтическом соревновании Гомера, который славил кровавую бойню. Речь шла о психотерапевтическом эффекте семьи, которая поддерживает человека в каком-то равновесии. Для Гесиода семья — это противостояние железному веку.
Ведь что такое железный век? Сначала, как мы знаем, был золотой век, потом — серебряный и бронзовый, и, наконец, наступил век героев Троянской войны. Как только эти герои погибли в V–VI вв. до н. э., среднестатистического грека магически обступили боги и иные существа, перед которыми он был столь же беззащитен, как житель африканского племени перед лицом стихии.
В драматургии на этот вызов ответил Эсхил, который ввел в греческую трагедию второго актера. До этого был только хор, который комментировал действия героя, но диалог возник только вместе с появлением второго персонажа. Семья — это и есть диалог. Так было и в европейской драматургии — прежде всего, в испанском барокко.
Но в ХХ веке мы видим уже безо всяких драматургических теорий, что семья — это действительно очаг сопротивления, который, к сожалению, имеет тенденцию взрываться изнутри. Она как государство, которое трудно захватить извне, но можно взорвать изнутри.
ИА Красная Весна: Получается, вместе с советским государством взорвали и советскую семью?
— В те же 1960-е годы семья была не просто какой-то там «ячейкой общества» — она к тому времени стала неким укрывищем по принципу «Мой дом — моя крепость». Сегодня мы все настолько разуверились в завтрашнем дне, что даже не знаем: нужна ли нам семья? А ведь еще в 1960–1970 гг. она значила для советского человека очень много.
Здесь, как ни странно, можно услышать отголоски целомудренной традиции XIX века. Люди вдруг поняли, что нельзя прожить без таких глубинных основ бытия, как любовь и уважение к ближнему — тех самых, про которые сказано в Евангелии.
Это понимание по-разному преломлялось и в советской драматургии. Как и почему Александр Вампилов написал свою загадочную пьесу «Старший сын» — абсолютно чеховскую вещь, в которой одновременно сильны и бэккетовские мотивы? Какой-то незваный гость, опоздавший на электричку, вдруг обретает отца в незнакомом мужчине. Экзистенциальный мотив родства прорывается здесь вопреки всем обстоятельствам сюжета!

Тот же мотив, но на иной лад, Вампилов представил в «Утиной охоте». Герой пьесы Зилов тоже мечтает о какой-то опоре, только ею оказывается уже не семья, а охота как некая избавительная страсть. Эта охота — всё равно что Обломовка для Обломова или Петушки для Венечки Ерофеева. Но ни до Обломовки, ни до Петушков добраться нельзя, как нельзя добраться до смерти.
Если же говорить о драматургии Виктора Розова, Алексея Арбузова и других, то она развивалась в отрыве от государственной идеологии и советского уклада жизни. Все эти авторы искренне пытались на что-то опираться, но стали жертвой ложного понимания. Получилось как у Набокова в «Защите Лужина»: «Уже негде было разложить парчовое слово: измена».
Советская семья к тому моменту уже управлялась не идеологией и тем более не религией, а психологическими и сексуальными побуждениями. И вдруг в конце 1980-х годов нашим соотечественникам бросили заветный клич: «Обогащайся, ты свободен, над тобой больше нет власти!»
Тут-то все и кинулись обогащаться! Три-четыре поколения этим уже отравлены! Семья — больше не фундамент, от которого можно «танцевать». Для «маленького человека» современности родители — поначалу источник дармовых благ, а затем досадная обуза. «Скорее бы они сдохли и оставили машину, квартиру, дачу», — думает типичный представитель молодежи.
Искусство, как и семейная жизнь, тоже теряет исповедальное предназначение, становится сферой обслуживания. В театр теперь нельзя прийти, как в молельню — а в 1960–1970-е гг., как ни странно, было можно! И дело даже не в том, что современная драматургия погрязла в самодеятельности и кружковщине. Куда страшнее, что исчезло такое понятие, как семейный просмотр!
ИА Красная Весна: Всё настолько плохо? Уж на что процветает индивидуализм в США, но ведь у американцев есть понятие «family film».
— Как ни странно, даже в Америке высокобюджетные семейные картины не окупают себя в прокате, как бы их ни рекламировали. Всё, что накопила буржуазная цивилизация за четыре века, вдруг отбрасывается, и человек остается, по Кьеркегору, висеть в пустоте, словно паук на своей паутине. Это состояние невыносимо!

Наше поколение — поколение тех, кому сейчас слегка за 50 — прочувствовали такую пустоту очень давно. В молодости все кружилось вокруг нас, и мы потихоньку стали понимать, что сами кружимся в каком-то социальном вакууме. Мы увидели один выход: опирайся на собственные ресурсы, но одари ими другого! Всё, что отдал — твое; все сбереженное для себя — пропало! Из современной драматургии этот императив вытравлен.
Неспроста сейчас почти все пьесы идут от первого лица… На смену советской драматургии 1960–1970-х гг. пришла драматургия иррационального, «рыкающего» эгоизма, о котором предупреждал еще Виктор Гюго. Меня хочется спросить своих коллег: «Вы этого хотели? Вы хотели этой энтропии, которую не окупишь никакими деньгами? Вы хотели накопительства, которое душит вас, как удавка?» Человек должен заново приучиться одаривать ближнего, не растрачивая себя.
Что уж говорить про семью! Мы даже не приглашаем друг друга в гости, а это, между прочим, главный показатель… Мы встречаемся в кафе, в ресторанах, а то и попросту глазеем друг на друга в Instagram. Плоды компьютерной постмодернистской цивилизации каждодневно выжигают человека изнутри, хотя машинально он и продолжает жить, опираясь на остатки чего-то привычного и родного.
Всё это не проходит даром! Корродирует не только драматургия, но и сам язык. Бродский ведь недаром говорил, что «не улица формирует язык литературы, а литература создает язык улицы». Сегодня каждый должен обретать свой собственный голос — или как автор, или как читатель. Но именно свежий индивидуальный голос! Если вся русская и мировая драматургия — это битва с пошлостью существования, то сейчас этот вопрос обострился как никогда. Либо мы победим стереотип, либо стереотип победит нас.
ИА Красная Весна: Александр Валерьянович, вы сказали, что «семья была сопротивлением» всегда — и во времена Гомера, и в XIX веке, и теперь. Вы могли бы немного раскрыть эту мысль? Я так понял, семья — это не сопротивление вообще, а сопротивление захватчику, как и в случае с государством?
— Да, конечно.
ИА Красная Весна: Кто же этот захватчик? Это ведь и всех нас, живущих в современной России, касается?
— Мне не хотелось бы ни напускать лишнего тумана, ни толковать вульгарно это сопротивление. Для меня семья — это не какой-то архаический клан, а круг людей, которые объединены накаленным сопротивленческим чувством. Чувством, что можно и нужно сопротивляться оккупации.
«Захватчик» — это не какой-то американизм, который все любят клеймить, а смертная болезнь. В Европе она вступала в свои права четыре столетия кряду. Нас этот приступ энтропии захлестнул только 30 лет назад.
Почему столько депрессии, почему столько самоубийств? Возникает чувство фальши, терзает ощущение, что время нелинейно и завтрашнего дня как бы не существует. Настоящее тоже эфемерно и ежесекундно грозит расколоться. Малейшая беда — и человек должен искать тех, кто поможет ему выстоять, а, найдя, нести экзистенциальную ответственность за свой выбор и за тех, кого выбрал.
Здесь-то и вступает в свои права культура! Культура общения и даже культура чувствования. Если Флобер мог сказать в XIX веке, что нравственность в природе вещей, то мы не можем с той же убежденностью утверждать это сейчас.
Приведу один драматургический пример. В 60-е гг. XIX века Островский пишет «Грозу» — сугубо русскую классицистскую трагедию, или, если угодно, мещанскую драму. В «Грозе» Островский полемизирует с Гюставом Флобером и его «Госпожой Бовари». Госпожа Эмма Бовари рассуждает примерно так: «Если бы у меня были деньги, я бы смогла вырваться из этого омерзительного псевдосемейного буржуазного окружения». У Островского Катерина тоже хочет выбраться из «темного царства», но ни о каких деньгах не думает!

Когда я в первый раз выбрался во Францию, то был поражен, насколько угнетены средние французы тем, что надо платить по счетам. На это нужно класть всю свою жизнь, если хочешь хоть как-то существовать. В 80-е годы XX века среднестатической буржуазной семье приходилось попросту выбиваться из сил, чтобы держаться на плаву.
В современной России тоже все задавлены денежным вопросом, но надежда на некое обновление остается. Это обновление должны возвестить пассионарии. Возможно, появится поколение людей, чья пассионарность будет притягивать всё новых и новых сограждан. Это и есть та энергия, та витальность, которая нам так нужна. Если хотите, каждый такой пассионарий должен «завербовать» ближнего.
ИА Красная Весна: Вы говорите о «вербовке» через культуру?
— Пользуясь этим словом, я сейчас рассуждаю чисто по-режиссерски. Как заинтересовать и очаровать человека, который позарез тебе нужен? Ты должен быть до конца искренним, ты должен раскрыть свою человеческую природу, не побоюсь этого слова, с изысканной стороны. Нам сейчас не хватает изящества, некой элегантности в отношениях. Так что да, я говорю про культуру.
Культуру оставляет после себя любая эпоха. Но если закольцевать ответ на Ваш вопрос и вновь обратиться к античности, то сейчас нужно, чтобы вновь наступил век героев. Героев под стать тем, которые погибли на Троянской войне и под Фивами, но затем возродились, подобно Фениксу. Всё ведь повторяется!
По Платону, время стремится к вечному возвращению, и за днем сегодняшним мы всегда должны прозревать день завтрашний и послезавтрашний. Но это нельзя понимать как призыв к накопительству. Оно обернется теми «вороньими дрязгами», о которых писал Бродский в IX сонете к Марии Стюарт.
В чеховской и постчеховской драматургии эти дрязги кончаются тем, что человек уходит во внутреннюю эмиграцию, будучи не в силах противостоять стихийному течению жизни. Тогда каждый становится сам по себе и за себя. Это свобода, которая не нужна ни тебе самому, ни окружающим. Как вырваться за ее рамки?
Сам Чехов на этот вопрос не отвечает. Он только выводит нас на развилку, но не указывает, куда идти. Все чеховские герои ноют: «дайте поработать!», — но все остаются при своих. Ирина из «Трех сестер» побыла телеграфисткой, но в итоге призналась, что «не может» и «не станет работать». То же самое и у второй сестры, Маши. И только Ольга пытается что-то сделать, но пасует перед мещанским натиском Натальи.
ИА Красная Весна: Очень много кто спасовал и пасует до сих пор. Где, в каких культурных пластах, по-Вашему, нужно черпать силы, чтобы не поддаваться мещанству?
— Кто-то мне сказал: «Ты заметил, как мало стало на улицах алкашей?» Первой моей мыслью было: вымерли. Смерть оттого и так страшна, что всегда рядом с тобой. Смертными людьми управляют жадность и страх. Как найти третью составляющую — силу? Не силу в магическом или ницшеанском смысле, а витальность, укорененную в культуре?
Сейчас ни театр, ни кино, в силу своей плебейской недоделанности, не создают по-хорошему сильных героев. Силу человека сейчас привыкли измерять деньгами или влиянием. И то, и другое рассеется как дым, а подлинная сила останется. Остается, потому что только она и может на что-то и на кого-то влиять.
Герой XX века — если только он не полностью отрезанный ломоть, подобно Калигуле из одноименной пьесы Камю — должен искать не просто свою «половинку», а круг общения в метафизическом смысле. Здесь-то мы и приходим к тому, что семья есть метафизическая единица, и эта метафизика рождена любовью.
В закоулках постсоветского интеллигентского сознания до сих пор живут благотворные поветрия — фильмы 1960-х, спектакли Г. Товстоногова, А. Эфроса, О. Ефремова. Недаром Достоевский понимал, сколь важны поветрия. «Теперь всё такие поветрия, немудрено схватить жабу, и я, признаюсь вам, начинаю уже кутаться во фланель», — говорит Яков Голядкин в «Двойнике».
ИА Красная Весна: А что это за «фланель», в которую можно взять и «укутаться»? Разве это совместимо с тем сопротивлением, о котором Вы говорите?
— «Фланели» нет и не предвидится, а вот благотворные поветрия все-таки еще остались. Но костру нужны дрова, в то время как современный человек лжет самому себе, пытаясь уцелеть «без дров», в одиночку.
Гарри Моргану (главному герою романа Э. Хемингуэя «Иметь и не иметь» — прим. ИА Красная Весна) понадобилась целая жизнь, чтобы усвоить эту простую истину, и полминуты перед смертью, чтобы произнести: «Человек один не может ни черта». Трагичность бытия требует, чтобы ей бросили вызов. Нас вытолкнули в мир — мы должны сопротивляться. В одиночку, без опоры, это невозможно.
Это касается и драматургов. Не стоит думать, что серьезную пьесу можно переосмыслить, осовременив ее. Чехов, Островский и даже Вампилов уже заняли свое место в истории. Нужно заниматься не перелицовкой их произведений на современный лад, а искать, где могла притаиться искомая сила.
Тут мы уже переходим в область эстетики, что требует отдельного разговора. Скажу одно: нужно вдохновляться тем, что захватывало миллионы наших соотечественников или, во всяком случае, огромные их массы. Всё это интеллигентское наследие 1960–1970-х гг., будь оно неладно, взаправду подпитывало нацию!
Семье было что почерпнуть из этого наследия; оно поддерживало в ней хоть какие-то устои. Кто-то же вбил сваи, на которых до сих пор стоит, например, Венеция или Ленинград! С той лишь разницей, что нематериальные сваи, в отличие от вещественных, рушатся сейчас повсюду. Чтобы сопротивляться этому разрушению, нужно опереться на свои собственные силы, которыми никто тебя не одарит свыше.

Мы очень мало знаем, а порой даже не хотим знать про себя и свои силы, потому что чертов компьютер подсовывает нам готовые ответы. Возникают псевдопроблемы, с которыми люди ведут псевдоборьбу. Сейчас все наперебой спрашивают друг у друга: «Что делать, как жить дальше?» Пусть каждый спросит себя сам, пусть каждый сначала доверится себе. Вспомним, что каждый русский — дитя интуиции. Тогда будет не стыдно предстать пред очами Демиурга.






















