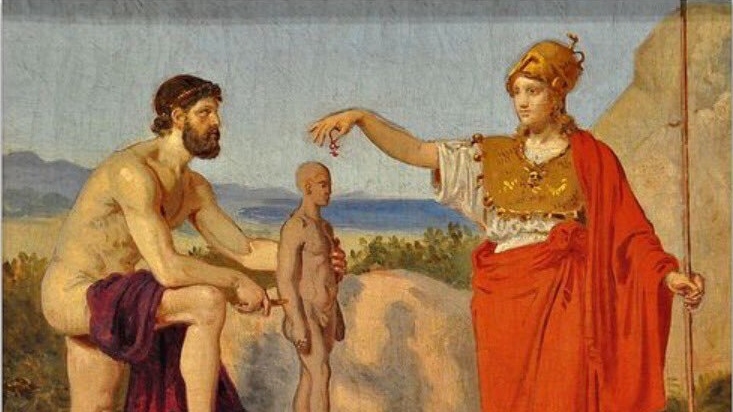«Каждый фильм — удар по врагу»

С началом специальной военной операции Россия столкнулась с противником, оказавшимся на поверку авангардом современного фашизма, на победу которого работают основные технологические возможности Запада, в том числе, и культурные. Ситуация схожа с Великой Отечественной войной. Как тогда, так и сейчас кинематограф — массовое искусство, отражающее самоощущение общества и его ответ на вызовы. Каким в этом плане был кинематограф Великой Отечественной войны, рассказал профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой гуманитарных и общественных наук Санкт-Петербургского института кино и телевидения Аркадий Русаков.
Корр.: В какой степени кино во время Великой Отечественной войны определяла цензура?
Аркадий Русаков: Вы знаете, здесь о цензуре-то говорить как раз и не стоит, потому что данный фактор был достаточно смягчен во время войны. Причин этому достаточно много: во-первых, контроля было меньше, было не до этого, и, во-вторых, фильмов было меньше. У нас кто кинопроизводство контролировал, прежде всего? Главный продюсер и критик — Иосиф Виссарионович Сталин. Он любил кино, он просматривал и даже читал сценарии. Но на протяжении пяти лет войны, конечно, ему было особо не до фильмов. Я могу здесь привести в пример письмо Сталину Михаила Ромма, нашего замечательного режиссера, по поводу того, что слишком часто снимают руководителей в эвакуированных студиях — в Алма-Ате и т. д. Тогда в связи с этой ситуацией Сталина чуть ли не обвиняли в антисемитизме, потому что он снимал с постов. Конечно, сам текст письма был в уважительной форме, в нем говорилось, что такие частые изменения не играют на пользу управлению. И… ему ничего за это не было! И снятия с должностей тоже прекратились.
У нас и в Первую мировую войну не было официальной цензуры в кино, в отличие от печати. Ее не было фактически до 1918–1919 годов. В 1917 году Госдума хотела рассмотреть на своем февральском заседании вопрос о цензуре в кино, но что произошло в феврале 1917 года, мы все хорошо знаем, поэтому собрание это не состоялось и данный вопрос не рассматривался. В то же время и православная церковь тогда не очень рьяно выходила с критическими вещами. Она могла сказать, что конкретно этот фильм безнравственный, но никаких запретов не было. И во время Великой Отечественной войны здесь было, на мой взгляд, скорее, ручное управление.
Другое дело, что сами кинематографисты тогда прекрасно понимали свою ответственность за каждую снятую сцену, за каждую фразу. Знаменитая статья Михаила Ромма, которая вышла сразу же, по-моему, в июле 1941 года, во вгиковской газете была озаглавлена «Каждый фильм — удар по врагу». Эта фраза стала основным принципом для кинематографистов. Всё было нацелено именно на это. И выходит, что, с одной стороны, цензура и цензоры были, но, с другой — общество было настроено патриотично.
Корр.: Как режиссеры видели этот идеологический «удар по врагу»? Что считали важным показать?
Аркадий Русаков: Это, конечно, вера в победу. Люди, которые защищают Родину, должны быть показаны, и показаны, конечно, с положительной стороны. События тоже должны быть прокомментированы в положительном ключе.
Самые первые фильмы в начале войны, — это боевые киносборники. Если проводить параллели, у нас гораздо лучше ситуация в кинематографе, потому что, слава богу, нет нужды вместе с промышленностью перевозить с запада на восток киностудии. Понадобилось время, чтобы они там полностью устроились, первый фильм «Секретарь райкома» вышел только в конце 1942 года. До этого выпускали фильмы, которые начинали снимать уже до войны, например, «Парень из нашего города».
Корр.: Этот фильм сняли до войны?
Аркадий Русаков: Начали снимать до, а закончили уже во время войны. Другой фильм, «Свинарка и пастух», который вышел буквально перед началом войны, тоже показывали в кинотеатрах. В этой картине войны нет, но люди с удовольствием его смотрели, потому что он — о мирной жизни. Он как бы отвлекал от войны. Некоторые фильмы и вовсе не вышли в то время, в частности, замечательный фильм Михаила Ромма «Мечта». В нем великолепно сыграла Фаина Раневская. Его выпустили уже только в 1943 году. Это картина о жизни в Польше в 1930-х годах. Фильм «Сердца четырех», снятый аж в июне 1941 года, тоже не пропустили на экраны, но в конце войны он все-таки появился в кинотеатрах. Эти и другие фильмы были отложены не по причине того, что они не отвечали духу времени: считалось, что на тот момент данные фильмы неуместны.
В первые месяцы войны главной в кино была документалистика. Документалисты работали и действительно рассказывали о Красной Армии и тех заслугах, которые были, пусть и небольшие. Тогда уже и врага останавливали, и наши войска переходили в контрнаступления. В этом плане примечательно, что первым нашим фильмом, который получил «Оскар», оказался «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Он был создан уже в 1942 году, а в 1943-м — получил статуэтку.
Конечно, немцы не ожидали, что им не удастся осуществить их план «Барбаросса». Они хотели уже чуть ли не за месяц продвинуться на 300 километров, занять территорию от Белого моря до Казани, а затем по Волге дойти до Каспия, взять Москву и Ленинград. Этого у них не получилось. И именно это крушение немецких планов показали тогда людям документалисты.
Также в начале войны выходили короткометражки, где снимались известные актеры. В частности, Борис Бабочкин, который играл Чапаева, выплывал и говорил: «Ну что тут у вас, опять немец беспокоит? Пойдем разбираться». Максим из знаменитой трилогии «Юность Максима», «Возвращение Максима», которого играл Борис Чирков, прекрасный артист, пел песню уже немного другую:
Этой улицей врагу не пройти,
В дом этот светлый врагу не войти!
Одним из первых полнометражных фильмов о войне стали «Непобедимые» 1942 года (реж. С. А. Герасимов, М. К. Калатозов) про оборону Ленинграда. Борис Бабочкин там играл конструктора, который создавал мощные танки. В этой картине есть великолепная по трагизму сцена, когда на дороге немцы бомбят безоружных мирных людей. Эти кадры действительно оказывали сильное влияние.

Эти работы, может быть, были не очень хорошо сделаны, и сами режиссеры признавали это. На съезде кинематографистов, по-моему, в 1944 году, они писали, что тогда не знали, что такое настоящая современная война. Они хорошо знали Гражданскую. Например, Ефим Дзиган поставил фильм «Мы из Кронштадта» — достаточно известная картина. Эйзенштейн тоже служил в Красной армии. В Великую Отечественную войну режиссеры все-таки опирались на свой опыт, а опыта текущей войны у них, естественно, не было. Тем не менее, их фильмов ждали, ждали эти боевые сборники, ждали, например, Антошу Рыбкина, героя короткометражки из третьего киносборника, про которого потом сняли отдельный фильм.
Сами сюжеты киносборников составляли драматические истории отступления, моменты расставания с людьми, всего того, что сопровождало войну. Эти истории не только оказывали большое влияние на людей, но и показывали, с каким страшным вызовом столкнулась тогда страна.
Корр.: Выходит, режиссеры опирались на опыт Гражданской войны, и, прежде всего, личный?
Аркадий Русаков: Да, они опирались на опыт Гражданской войны, и частично на то, что они видели на войне текущей. Были фильмы о войне, которые снимали уже в конце 1930-х годов. Например, тот же Ефим Дзиган снял фильм «Если завтра война» 1938 года, который все ругают и критикуют за шапкозакидательство. Но давайте вспомним 38-й год. В картине показана Красная Армия, которая мгновенно отражала удар и переносила действия за границу. Но, во-первых, тогда не знали, кто нападет. Сначала действительно думали, что конфликт может быть с Чехословакией или с Польшей. Например, фильм «Гордые соколы» 1937 года (второе название — «Глубокий рейд») рассказывает о летчиках дальней авиации, наносящих удар в ответ на наступление западных войск. Каких именно западных войск, непонятно, но фуражки у них похожи на польские. Оба этих фильма, в общем-то, отражали реальное положение вещей, потому что у нас была тогда одна из лучших дальних авиаций. И была концепция, что мы ударим дальней авиацией по тем, кто попытается на нас напасть. В то время кадры пилотов только-только приходили в армию. Линии обороны на западной границе были партизанскими, при этом самолеты дальней авиации мы создавали на тот момент самые передовые.
Однако ситуация быстро меняется. Что из себя представляла Германия в 1938 году? Она только аншлюс сделала. Свою основную мощь она получает после Мюнхенского сговора благодаря присоединению Судетской области. Это бывший промышленный центр Австро-Венгрии, где была сосредоточена вся военная промышленность. Затем произошел захват Польши, Франции («странная война»), Румынии с ее нефтью. Как итог, в 1941 году это уже был совершенно другой противник, который имел при этом боевой опыт в Европе.
Одновременно с этим выходили такие картины, как блестящий фильм «Моряки» Владимира Брауна, очень неплохой для своего времени «Четвертый перископ» Виктора Эйсымонта, где впервые были показаны подводные лодки. Обвинять авторов этих картин в шапкозакидательских настроениях некорректно, ведь на момент съемок мы были на одном уровне с гипотетическим противником, но после того, как практически вся Европа объединилась, естественно, это был уже совсем другой противник. И хотя к началу Второй мировой было довольно трудно предсказать, в какую именно сторону пойдут процессы, всё равно перечисленные выше фильмы были нужны.
Сравнивая опять же то время с нынешней ситуацией, я считаю, что репортажи, конечно, необходимы, это правильно и хорошо. Но должны быть и художественные фильмы. Пусть они будут небольшие, короткометражные, а может быть и полнометражные, у нас на Ленфильме готовы снимать. Почему бы и нет? Да, будут ошибки. Да, успех у зрителя — это вещь достаточно неопределенная. Но хотя бы будет какой-то опыт. И, возможно, даже удачный.
Мне кажется важным, что эти фильмы при всех тяготах войны были, тем не менее, жизнеутверждающими. Например, после «Свинарки и пастуха» Иван Пырьев снял «В 6 часов вечера после войны». Там снимались Марина Ладынина и многие другие замечательные актеры. Этот фильм выпустили только в 1944 году. В финальной сцене картины герои фильма договорились встретиться в 6 часов вечера после окончания войны на Крымском мосту у Кремля. И они встречаются на фоне салюта, который затем и был в 45-м году. Показывать такие вещи, мне кажется, очень важно.
Также важно говорить на языке кино о том, что мы всё равно победим. Например, «Непобедимые» Сергея Герасимова и Михаила Калатозова и «Мы с Урала» Льва Кулешова, которые рассказывают про тыл. В этом фильме великолепно сыграл Сергей Филиппов. Для того чтобы мальчишкам объяснить, что нужны рабочие в тылу, он им говорит: «Чтобы Гитлер знал! Если у нас два хороших рабочих завелось, то еще два фашиста будут землю жрать!»
Корр.: Отличались ли художественные фильмы военного времени по стилю от картин, снятых до войны? Можно ли проследить изменения в настроении картин от лирико-мелодраматических по типу «Два бойца» до жестких и трагических по типу «Она защищает Родину»?
Аркадий Русаков: Если сравнивать с предвоенными фильмами, то отличия, безусловно, есть, хотя бы потому, что съемка картин военного периода была все-таки не так обеспечена ресурсами, как предыдущие. Что касается «Двух бойцов», то он вышел уже в 1943 году. Да, там есть сцена, где немцы валом падают под пулеметной очередью одного из главных героев, там есть шутки, и специально прописанный под них персонаж, и замечательные песни, которые остались в культуре, например, «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали…».
«Жди меня», «Воздушный извозчик» — все эти фильмы вроде лирические, но тогда людям хотелось порой и отдохнуть от войны, и увидеть за ожесточающими военными буднями другую жизнь. Ведь опять-таки все эти картины жизнеутверждающие! А вместе с ними были фильмы по типу «Она защищает Родину» Фридриха Эрмлера и «Радуга» Марка Донского. Последний производил очень сильное впечатление. Этот фильм рассказывает о жизни в немецкой оккупации, во что там превращают людей, обезличивая их, присваивая им номера вместо имен, не считаются с жизнями людей и так далее. Помимо ужасов, показывавших истинное лицо врага, в фильме также был мотив надежды, радуги, веры в то, что все эти муки небесконечны, что оккупации придет конец и враг будет отброшен. Картину посмотрело тогда 20 миллионов человек, ее показывали везде, где можно было повесить хотя бы простыню.
А был еще фильм «Актриса», в нем блестяще играл Борис Бабочкин. Это лирическая комедия, где по сюжету фильма раненого солдата выхаживает известная актриса, которая ушла из театра в медсестры. Она покинула профессию, решив, что ее театральная «ерунда» никому сейчас не нужна. Как те же мальчишки из «Мы с Урала», которые хотели на войну сбежать, а Филиппов их увещевал. Раненый солдат оказался ее поклонником, у него была ее пластинка — это основной момент фильма, — которую он всё время крутил. И вот когда он попросил ее, будучи еще с повязкой на глазах, эту пластинку поставить, она ее случайно разбила. Девушка понимает, что для него эта музыка важна, и тогда она берет гитару и сама поет вслух. После солдат говорит: «Пожалуйста, там на другой стороне есть еще музыка, поставьте». Она смотрит, что было на той стороне, а там «Блоха» Шаляпина. «Неужели вы думали, что я не отличу ваш голос?» — говорит он и после уезжает на фронт. Такие лирические фильмы играли большую роль. На фронте, например, очень любили смотреть фильм «Веселые ребята».
Корр.: А по количеству превалировали тогда военные фильмы, или снимали еще на другие темы?
Аркадий Русаков: Нет, конечно, снимали какие-то документальные фильмы, нужно было решать очень важные вопросы внутри страны. Я не могу точно ответить на этот вопрос, но один только «Иван Грозный» чего стоит! Дали же на него деньги? Дали, и вышло действительно грандиозное полотно.

Корр.: Но ведь там тоже были аллюзии на войну?
Аркадий Русаков: Это продолжение исторической тематики, начатой фильмом «Петр I». Петр Великий, конечно, не революционер, но он реформатор, полководец. Он многое сделал для страны, и это, конечно, сыграло роль. Дальше стали выходить «Александр Невский», «Суворов» и другие картины.
Почему именно тогда, перед войной, стали снимать исторические фильмы? Понимали, что конфликт неизбежен. Надеяться на классовую солидарность с рабочими западных стран было невозможно. Нужно было делать упор на свою армию и флот, поднимать боевой дух народа. Если раньше, в 1920-е годы, шли фильмы о простом человеке, который мог стать великим военачальником, как знаменитый Чапаев, то уже в 1930-е годы стали снимать фильмы о выдающихся личностях. Кстати, тогда и появились первые фильмы Михаила Ромма о Ленине. Да, был фильм «Человек с ружьем», он о простых людях, но и там есть Ленин, и он в этом фильме занимает вполне значимое место.
Корр.: На Ваш взгляд, какой была творческая лаборатория режиссера во время войны? На что он обращал внимание? Что он считал допустимым или недопустимым? Если взять как пример Александра Столпера, то в «Живых и мертвых» он показывал другие аспекты войны, нежели в «Жди меня».
Аркадий Русаков: Я уже говорил, что режиссеры поначалу не очень хорошо знали текущую войну. Даже в «Нашествии», несмотря на прекрасную драматургию, видно, что люди не до конца владели темой. Не то чтобы я сторонник того, что значимое видится на расстоянии, но действительно лучшая книга о наполеоновских войнах — это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Так и здесь. Уже после войны вышел фильм Григория Чухрая «Баллада о солдате», а через 30 лет после войны — «Они сражались за Родину», где действительно веришь людям на экране, где великолепно играют Василий Шукшин, а также Юрий Никулин, Сергей Бондарчук, которые сами прошли войну.
Но если можно сказать, что режиссеры тогда плохо знали фронт, то про тыл этого точно сказать нельзя. Тыл был показан точно. Например, в фильме «Два бойца», когда жильцы дома спускаются в подвал, героиня говорит Аркадию Борисову: «А у нас есть профессор-математик! Он подсчитал, что вероятность попадания в наш дом составляет одну миллиардную». И вдруг в бомбоубежище появляется этот профессор. «Да что вы! — говорит профессор, — при чем здесь одна миллиардная?! Вон в зоопарке у нас единственный слон был, и то его убило». И действительно, тогда в Ленинградском зоопарке в ходе бомбежек погиб слон. Его завалило обломками, и, хотя он три дня там еще был жив, к сожалению, возможности его достать не было. Такие бытовые детали придавали человечности картинам, делали героев ближе к зрителям. И здесь, чтобы образы были правдивее — я не сторонник постмодернизма, — должна как-то проявляться двойственность фигуры лидера. Если человек со всех сторон хороший, то этому персонажу просто не поверишь. По крайней мере, сейчас не поверят. Сейчас, даже снимая сказки, обязательно прописывают главного героя так, чтобы у него происходила инверсия. Прописывают его колебания, порой он может перейти на сторону зла или немного сдвинуться в эту сторону. В этом действительно есть правдоподобие. Нюансы бытовой жизни, внутренней жизни героев играют очень важную роль, и их надо тоже учитывать при создании картин.
Мне кажется, что персонаж должен быть не столько амбивалентным, сколько цельным и гармоничным в своей противоречивости. Ведь если человек представляет из себя образец морали, в нем это будет гармонично смотреться. Если просто игнорировать отрицательные качества персонажа, не уделяя им внимания в рамках творческой задачи, то получится какой-то обрубок, слабо прописанный герой.
Ромм, например, с позиции сегодняшнего дня, снимал «Вождей» монументально. Хотя интерес к этим фильмам до сих пор у студентов есть. Можно сказать, что беседа кулака с Лениным в конкретном эпизоде фильма вымышленная и нереальная. Но, с другой стороны, почему бы ей и не быть реальной? Всё могло быть.
Чего нельзя сказать об изображении Сталина в послевоенных картинах. Вот там уже Сталин как монумент, и он к этому шел. Если в картинах Ромма «Ленин в 18-м году» Сталин смотрелся скромно, то уже в фильмах 1940-х годов Ленин без Сталина ничего не мог сделать. Но это объясняется спецификой послевоенного времени, и это отдельная большая тема.
Что касается вырезанных сцен со Сталиным, то, например, в «Чкалове» сцену, где Чкалов разговаривает со Сталиным, вернули только в 2007 году. Я этот фильм в детстве смотрел, мне он очень нравился, но я не понимал, почему герой пребывал в такой эйфории после учебного сражения. Почему он вдруг ни с того ни с сего начинает говорить, что надо жить по-новому. А всё становится понятно именно в этой вырезанной сцене, когда Сталин подходит к нему и они начинают беседовать. Когда в конце Чкалов говорит: «Обещаю, товарищ Сталин, летать долго!»
Корр.: Как режиссеры оценивали свои работы спустя время?
Аркадий Русаков: Во-первых, они подмечали схематизм, дидактику. И тем не менее все они говорили, что работали честно. Действительно снимали то, что было нужно.
Корр.: Было ли превалирование содержания над формой? Было ли главным донести смысл, поступаясь художественной составляющей, или всё обстояло сложнее?
Аркадий Русаков: В то время у нас были очень хорошие художники, если говорить об эстетике. Причем во всех сферах: и в кинематографе, и в мультипликации были замечательные операторы. Какие были пейзажи в наших сказках, мультфильмах! Я бы не стал говорить, что там совсем не было эстетики. Мне кажется, там эстетика присутствует, и я не хочу опять вспоминать в качестве примера «Ивана Грозного». Во многих фильмах того времени есть сцены, которые прямо врезаются в память! Порой это доходило даже до антиэстетики, как в фильме «Радуга», когда демонстрировали все эти ужасы. Я считаю, что и сейчас очень важно в картинах создавать такие образы, одновременно и правдивые, и в то же время художественные. Это сложнейшая задача.
Корр.: Какова судьба режиссеров уже в послевоенное время? За редким исключением у многих после войны карьера пошла на спад.
Аркадий Русаков: Тогда многие стали жертвами малокартинья. Но я не соглашусь с вами насчет заката карьер. Многие, например, Григорий Козинцев, Леонид Трауберг продолжали снимать. Иван Пырьев, например, первым стал экранизировать романы Достоевского в нашей стране. Его «Идиота» я считаю лучшей экранизацией Достоевского. К сожалению, на момент подготовки второй части Юрий Яковлев заболел, и Пырьев, надо отдать ему должное, не стал менять актера. После этого у него были и «Белые ночи», и «Братья Карамазовы», которые потом уже досняли Кирилл Лавров и Михаил Ульянов.
Что касается малокартинья, то после 1947 и по 1951 год у нас снимали иногда по 8 картин в год. А чем заменяли? Это другой очень интересный вопрос. Заменяли трофейными фильмами. Трофейные фильмы — это фильмы, оказавшиеся у нас «в плену», которые смотрели в Германии и в целом в Европе до прихода советских войск. Некоторые показывали даже во время войны. Мне отец рассказывал, что «Джордж из Динки-джаза» уже во время войны был в кинотеатрах. Там, конечно, больше джаза, чем сюжетного действа, и это достаточно наивное кино. По сюжету немец, предатель-дирижер, руководил оркестром в Норвегии специально таким образом, чтобы азбукой Морзе передать координаты английского корабля, который необходимо потопить.
Эти фильмы, «взятые в плен», делились на картины для общего доступа, которые могли смотреть все, и на те, которые доступны только руководящему составу. Среди всех этих фильмов был действительно неплохой выбор, например, «Серенада солнечной долины», «Большой вальс». Кстати, последний не позволил фильму «Волга-Волга» получить Сталинскую премию. Посмотрев «Большой вальс», Сталин сказал, что «пока не научитесь так снимать музыкальные фильмы, как „Большой вальс“, премию не дам». История эта известна из мемуаров, скорее всего, имела место, так как фильм действительно того стоил.
Корр.: Получается, что этим режиссерам, у которых пришлось творчество на малокартинье, просто не везло?
Аркадий Русаков: Да, они попали не в то время, как говорится, но здесь могут быть и другие причины. Действительно, наш главный продюсер и цензор сам наблюдал за всем этим делом, ему было удобнее смотреть. Но есть еще одна причина. СССР после войны стал практически второй державой в мире. Тогда же мы помогали многим странам, Китаю, например. Всё это обязывало снимать значимые фильмы. Например, дилогию об адмирале Ушакове, которую стали показывать не так давно в цвете. Также была идея пересъемки наших лучших фильмов на цветную пленку, того же «Ивана Грозного». Знаете, кто «Ивана Грозного» согласился переснять? Иван Пырьев. В итоге пересняли, по-моему, один только фильм «Глинка», остальное — не успели. Хотя в планах было шесть картин.
Корр.: На Ваш взгляд, в будущем будут пересматривать фильмы военного периода?
Аркадий Русаков: Думаю, что да. Тот же «Небесный тихоход», проверьте меня, 9 Мая уж по двум каналам как минимум пройдет, а может быть, и не раз. «Антошу Рыбкина» 1942 года недавно показывали, хотя это совсем слабенький фильм, там немцы очень карикатурными вышли. Фильм «Радуга», наверное, студенты до сих пор смотрят. Как-то раз на семинаре по истории кино девушка упомянула этот фильм. Мне захотелось ее проверить, и я спросил, какие сцены ей запомнились. «Мне запали сцены с мертвым ребенком», — ответила она. То есть смотрят, оказывается, смотрят! Но это киноведы, конечно.
Я думаю, если показывать, то будут смотреть. Они могут показаться схематичными или простыми, но может быть, эта простота и притягивает? Авторское кино — это хорошо, но лишь когда есть массовое кино. Должно быть, прежде всего, массовое кино, потому что оно имеет огромный потенциал диалога со зрителем, который нужно использовать, особенно в такие поворотные для страны моменты, как война.