Фармацевтия становится мировым диктатором, а медицина — ее служанкой

XVIII конгресс «Здоровье — основа человеческого потенциала», Санкт-Петербург, 23 ноября 2023 года
Сергей Кургинян: В одном из докладов — мне очень понравились все доклады, совершенно не хочу ничему оппонировать, — было сказано: «Входим мы в период смуты или не входим?» Мне кажется, что ситуация намного сложнее. Сложнее — не значит лучше. Я попытаюсь как-то это сейчас на конкретных примерах обосновать.
Был упомянут памятник Сталину, который в Великих Луках поставили, и там возникли проблемы — дескать, этого нельзя было делать. И так уже было. Именно это существовало на протяжении предыдущих десятилетий, и возникала некая линия, скажем так, условно, г-на Сванидзе. Или Млечина. Линия состояла в том, что Сталин и Ленин — «кровавые палачи», а потому им памятников быть не должно. Такая линия существовала на протяжении очень многих лет нашей истории. Мне приходилось ей оппонировать.
Кстати, к затронутой теме о расстрелянных дедах. Вот у меня дед был расстрелян. Он был офицером в Первую мировую, сыном предводителя дворянства, перешел к красным, командовал полком, потом — 1937 год и расстрел. Естественно, это очень сильно прошлось по семье матери и бабушки, и мне было достаточно трудно по-человечески начать что-то защищать и объективировать. Я просто видел, что тут вопрос уже не в семье. Тут вопрос: быть или не быть России? Что десталинизация обернется дерусификацией. То есть это будет крах полный. Я оппонировал всему этому, и большинство поддерживало. При этом господин Сванидзе был в каких-то общественных организациях при президенте типа «права человека». Мы шли в ту же сторону: «кровавые палачи» и так далее. Шли и шли.
А потом возникла СВО. И внезапно мы обнаруживаем — это все знают, — что в супергосударственном месте размещения бывшего первого главного управления КГБ СССР, а ныне службы внешней разведки, с благословения первых лиц, которые не могут это делать без благословения главного лица, установлена уменьшенная копия памятника Дзержинскому. И по этому поводу первые лица говорят, как всё хорошо, и Первый канал телевидения говорит, какой хороший был Феликс Эдмундович Дзержинский. Но, если Феликс Эдмундович Дзержинский был хорошим — Дзержинский очень сложная, талантливая личность (как писал Багрицкий: «О мать революция! Не легка // Трехгранная откровенность штыка» — и так далее) — если он уже хороший, то возникает вопрос: а почему Сталин плохой?
Это вам уже не эпоха Сванидзе. Там всё было ясно: «Плохой и всё, а маргиналы типа Кургиняна говорят, что хороший — точка!» Это совсем другая эпоха, дорогие товарищи-господа. Это эпоха, когда на сугубо официальном уровне, в сугубо официальном месте ставится памятник Дзержинскому. И тогда возникает вопрос: «А что такое, почему нельзя Сталину? А какая разница-то, ёлки с дымом?» Первый вопрос.
И второй. Если Дзержинский такой хороший, как теперь рассказывают — а он, конечно, намного сложнее, очень талантливый человек, очень сложный, — но если он такой хороший, как рассказывает уже официальный канал телевидения, то почему надо делать уменьшенную копию и ставить ее в СВР, если вместо этого можно взять основной памятник и поставить его на Лубянке — и пусть любуется не только Первое главное управление КГБ, но и второе, третье — и все прочие. Почему так-то не сделать?
А потому, что мы находимся не в периоде смуты, а в периоде гибридного существования, когда вот эта линия, которая была, остается, а диаметрально противоположная линия на нее накладывается.
Мы с очевидностью это всё видим. Это абсолютно беспощадная картинка. Внутри этой картинки есть основополагающая вещь, которая до сих пор не признана и без признания которой ничто измениться не может: в России нельзя хотеть удобно жить. Точка. Все эти не только верховные желания: «А у нас будет комфортная страна, у нас будет благополучная страна», — как один из крупных политических наших деятелей всё время говорил, удлиняя букву «р», — «норррмальная страна, норррмальная», — у него при этом слегка зрачок расширяется, — так вот, не будет этого, понимаете? Не потому, что кому-то этого не хочется, а потому что это невозможно. Россия будет или неудобной — совершенно другой, при этом счастливой, — или мертвой. Она жить комфортно не будет. Это очень грустно. Может, и хотелось бы, чтобы она пожила всё-таки комфортно, какой-то «западной» жизнью, слегка скорректировав дикое социальное расслоение и прочее. Но… невозможно, это — невозможно!
То, что было построено под идею комфортности, под все эти замечательные вещи, нашедшие отклик в душах, — ну кому же охота по-другому жить-то, — это вещи, ведущие к уничтожению. Всё. Та формула, по которой существовали при Сталине — это была единственная формула, дающая нам возможность жить и развиваться. Как только эта формула начала меняться, — а хрущевские изменения, они же отвечали некоторым ожиданиям определенных общественных групп, они же не на пустом месте родились, — волюнтаризм Хрущева… волюнтаризм-то волюнтаризмом, а уже хотелось пожить как-то иначе, уже ограничения очень сильно утомляли и номенклатуру, включая Лаврентия Павловича и других, и какие-то группы общества, которые хотели бы чуть-чуть расслабиться после всех этих мобилизационных судорог десятилетиями, а нельзя было — вот такая страна.
И весь этот разговор о том, нужны ли были «пояса безопасности»: это-де русские кормили кого-то… — никого русские не кормили. То есть, конечно, всех кормили — но ради себя. Это были реальные пояса безопасности: весь этот соцлагерь, все эти союзные республики — это были пояса русской безопасности. И, кстати, первый раз об определяющей роли русского народа Сталин сказал не после Великой Отечественной войны, знаменитый тост за русский народ впервые прозвучал за десять лет до нее. Сталин прекрасно понимал, что к чему и где здесь место русского народа — народа-держателя. И в гимне не зря пелось «Союз нерушимый республик свободных // Сплотила навеки Великая Русь» — как ядро.
Является ли это цивилизацией? Есть термин «советская цивилизация». Мне бы хотелось в этом вопросе точных терминов по одной причине: потому что, может быть, всё-таки из того, что во что вошли, придется выбираться. Хочется верить, что придется. А тогда концептуальные вопросы важны.
Теория цивилизаций была разработана Шпенглером, Тойнби, Данилевским у нас. И потом подхвачена человеком с видом скромного бухгалтера, которого звали Сэмюэл Хантингтон. Теория вся построена на том, что цивилизация — это моноконфессиональная структура, в которой конфессия доминирует. Но Россия-то неимоверно сложнее. Она, естественно, является метацивилизацией, и мы не можем этого отменить, так уж этот мир выстроился. Но мне кажется, что в этом есть еще одна очень важная вещь.
Наш великий поэт, дипломат и философ Тютчев, отвечая Бисмарку, сказавшему, что государство строится «железом и кровью», написал: «А мы попробуем любовью». И он же сказал, что «Умом Россию не понять, // Аршином общим не измерить: // У ней особенная стать — // В Россию можно только верить».
Когда у нас начались процессы либерализации, некий господин по фамилии Губерман сострил: «Давно пора, тра-та-та-мать, умом Россию понимать». Легко посмотреть на портрет Тютчева и фотографию Губермана и задать себе простой вопрос: «Кто же тут умнее? Не талантливее, не гениальнее, а просто умнее и образованнее — Губерман или Тютчев?» И понятно, что Тютчев в тысячу раз умнее, что его чисто рациональный интеллект намного выше, чем у Губермана. Просто Тютчев понимал, что одним умом ничего понять нельзя.
И это философия жизни — Дильтей и так далее — которая говорит, что объяснить ничего нельзя, а понять можно. Сердцем и умом одновременно. Или, как позволю себе сказать тут, выступая перед научным сообществом, правым и левым полушарием и миндалевидным телом, и еще неизвестно чем, какими структурами мозга — мы всё это схватываем, но мы схватываем это всё вместе. И когда мы схватываем это вместе, то становится ясно, что тютчевские слова «а мы попробуем любовью» имеют фундаментальнейшее значение. Потому что они означают, что русские действительно реально сделали ставку на мир любви. Это и есть их внутренняя идентичность. Это не значит, что не было никаких подавлений, репрессий на окраинах или чего-нибудь еще. Но на самом деле это был мир любви.
И в этом смысле вопрос о демографии простой. Простите, пожалуйста, он всё-таки как-то связан с любовью. Я не спорю, он, конечно, связан и с запретами на аборты. Но он же еще связан с тем, что в результате последних тридцати лет в России — стране любви — установилось фантастически безлюбое существование. Фантастически безлюбое! И сколько ни упирайся с тем фактором, с этим, с десятым… всё это необходимо, как говорят математики, но недостаточно. Верните любовь — будет и демография. Верните убитую, растоптанную, уничтоженную любовь. Которая, как мы все понимаем, абсолютно не тождественна сексу, и, в сущности, секс введен только для того, чтобы эту любовь уничтожать.
Это процесс очень сложный. И когда мы обсуждаем его, так или иначе мы должны как ученые задать себе вопрос: а какая сейчас-то модель человека? Мы-то сами где находимся в вопросе о человеке? Мы лечить хотим кого? Что такое — вот это, которое мы лечим? Оно как устроено?
Дискуссия эта шла с античной эпохи. Тогда уже сравнивали суставы с шарнирами и человека с машиной. Но наряду с механической теорией всегда существовала теория органическая, она материализовывалась в каком-нибудь там «витализме», она пышно расцвела в XVII–XVIII веках, потом быстро свернулась при Дарвине, Спенсере и так далее.
А потом началось что-то другое, что очень трудно сейчас ухватить, потому что медицина существует в значительной степени сама по себе. Даже, скажем так, физиология, которая ближе всего к ней, существует чуть-чуть не вплотную. Дальше какая-нибудь практическая биология, а потом теоретическая. Так вот, когда начинаешь читать статьи по теоретической биологии, то, простите, что энтелехия, что эмерджентность — я не понимаю разницы. Когда мне в очередной раз говорят об эмерджентности, я вспоминаю Аристотеля с энтелехией.
Так всё-таки человек — это органическая система? Описывать человека с помощью аппарата, взятого по большей части из неживого мира, из мира мертвой материи, не значит ли это повторять «гениальное достижение» г-на Сальери, сказавшего: «Музы́ку я разъял, как труп»? Но разъяв-то ее, в отличие от Моцарта, он ничего не получил, получил именно труп. Как быть человеком-то? Иначе говоря, эта чертова жизненная энергия всё-таки существует или нет?
Проблема заключается в том, что с точки зрения теоретической биологии она существует, а при продолжении существования нынешней медицинской практики, так сказать, «мейнстримной», будет фатально уничтожено всё, что связано с жизнью. Это — исступленное желание разъять «музы́ку», сделать из нее «труп», а потом начать всё это собирать. Собирать-то собирают, а ничего не возникает!
А любовь эта самая — где она находится? И что происходит? Вот замечательно только что говорили о витальном потенциале. А это что такое-то?
У меня возникает вопрос: «А может, не рожают, потому что не живут?» Ну не живут, вы посмотрите вокруг! На себя посмотрите, на детей. И всё хуже и хуже с этим, с каждым поколением всё хуже. Я знаю, я работаю с молодежью. Как именно всё происходит в Островском районе Костромской области с медициной — я вам могу рассказать отдельно. Население говорит, что из Островской больницы путь один — на кладбище. Мы уничтожаем провинцию. Уничтожаем! Мы ее спаиваем, разлагаем.
И если раньше многое касалось только мегаполисов, то смартфоны перенесли порнографию во все страты. Порнография — это не раскрепощение секса, это его подавление, и уж тем более подавление любви. Значит, мы хотим двигаться дальше в процессе насаждения всего того, что не позволяет рожать детей, и одновременно бороться за демографию? Мне напоминает это только фразу из поэмы Твардовского «Теркин на том свете»: «Это вроде как машина // Скорой помощи идет, // Сама режет, сама давит, // Сама помощь подает».
Практический вопрос, совсем практический — мне кажется, что феноменология в таких случаях тоже есть научный метод.
Я лично выступил против пенсионной реформы. Я поручил движению собрать миллион подписей против пенсионной реформы, и сделал это не из сентиментальных соображений. Я понимаю, что нужны деньги. Понимаю, что старение идет. Я понимаю всё это. Это не так: «Боже мой, мы сейчас людей затронем, они обидятся». Доверие — это важно. Доверие — это огромный фактор. Но я сделал это из других соображений. Я считал, что это идиотское перекладывание денег из одного кармана в другой, а вовсе не экономия денег!
Потому что мы уничтожили институт бабушек. А теперь я хочу спросить: сколько он стоит? Сколько стоят эти миллионы бабушек, которым, в отличие от нянь, доверяют и при которых рожать будут легче? Потому что будет понятно, кому ребенка передавать. Взяли и уничтожили институт бабушек. Теперь плачут по демографии и собираются строить технологические центры по побуждению женщин к рождению детей. Вы любовь восстановите — и будут дети. Вы доверие восстановите — и будут дети. Вы гомеостаз среды, в которой эти дети должны возникать, восстановите — и будут дети. Иначе их не будет.
Дальше возникает вопрос о том, как это всё происходит с точки зрения конфликтологии, которая не должна превращаться в конспирологию, но всё же существует.
Замечательные конференции, замечательные тезисы. Всё прекрасно. Но простите, пожалуйста, вы верите, что всем нужно здоровье? Вы верите, что все хотят роста народонаселения? Прочитайте еще раз материал Римского клуба. Это давнишняя история, где было прямо сказано, что: «У нас есть две возможности: либо повышение смертности, либо понижение рождаемости». И это говорится всё время!
О чем говорилось на последней ассамблее ВОЗ? О том же самом. Значит, никто не хочет увеличивать население. Никто не знает, что делать, если Индия и Китай честным капиталистическим путем, на основе рынка и глобализма, добьются благосостояния и после этого каждая индийская и китайская семья захочет получить американский достаток: две машины, коттедж, электричество. Это где всё надо брать? И зачем? Всё, что проводится в качестве мегатренда, есть уничтожение здоровья для сокращения населения. Поэтому если мы и существуем, то в борьбе двух тенденций: кто-то хочет это население увеличить, а кто-то — уменьшить. Кто-то хочет здоровья, а кто-то хочет болезней.
Теперь, что такое эти все показатели при существующей системе? Объективно совершенно — я занимался этим два года — могу сообщить результат. Медицина чудовищным образом на Западе — да, в общем-то, и везде — с каждым пятилетием переходит в роль служанки фармацевтии. Это происходит тысячей способов. Она теряет суверенитет. Она пристегивается к фармацевтии.
Фармацевтия — это единственная отрасль, которая немыслимым образом растет. Нет отрасли, в которой взрыв потенциала такой, как у фармацевтии. В XIX веке какие-то там аптекари, а сейчас эти гиганты — ну это же совершенно разные вещи.

А что нужно фармацевтии? Ей нужен больной человек! Зачем ей здоровый нужен? Она что с ним будет делать? Без всякой конспирологии: ей нужно, чтобы росло потребление лекарств, и чтобы они усложнялись. Значит, в отличие от человека традиционного общества, где либо он здоров, либо умирает, возникает человек, который и живет, и нездоров, и глотает пригоршнями лекарства. Так это и есть идеальный рыночный субъект фармацевтии, именно он для нее нужен! Он должен жить и больше глотать разных лекарств. Ну это же очевидно! Теперь это самая главная инвестиционная отрасль мира.
Отвечаю за свои слова: фармацевтия является главной инвестиционной отраслью мира, с самыми высокими процентами. Если фармацевтия является такой отраслью, то кто будет ею интересоваться больше всего? Инвестиционные фонды, правильно? Так они ею интересуются! Это BlackRock, The Vanguard Group и State Street — вот эти три инвестиционных фонда. Они говорят, что их суммарная мощность равна примерно $20 трлн. Мне кажется, они приуменьшают вдвое. Этот вот Ларри Финк, который, приехав покупать Украину, сказал: «Заверните мне ее, пожалуйста, целиком. Сколько стоит?»
Эти инвестиционные фонды, являющиеся абсолютно новым субъектом посткапитализма, это не Рокфеллер и не кто-то еще, это совсем другое, с неограниченными возможностями, и они покупают масс-медиа, политику и фармакологию. После того как они покупают масс-медиа, политику и фармакологию, они устраивают COVID. И что происходит? Резко возрастает спрос на лекарства, на эти так называемые вакцины. (Что такое мРНК-вакцины и являются ли они вакцинами, это отдельный вопрос, пусть его обсуждают специалисты. Я много раз цитировал нескольких лауреатов Нобелевской премии, которые говорят, что это всё полное фуфло, никакого отношения даже к вакцинам не имеющее, да и с вакцинами тоже вопрос, и так далее.)
Значит, мы имеем дело с некоторым явлением, — очень мощным, — первой репетицией которого является вакцинация. Я не говорю, что надо погрузиться в дикость и вообще никак не лечить вирусные заболевания — упаси бог. Я вообще не вторгаюсь в прерогативы медицины. Я только задал простой вопрос: почему нельзя вести дискуссию? И чем Зверев хуже Гинцбурга? Я не понимаю, ну пусть мне кто-то объяснит: один заведует институтом, другой тоже, тот академик, другой академик… Говорят, что Зверев больше занимается этими делами, а тот из почвоведения.
Я никого не хочу делать плохим, но спрашиваю, почему на Первом канале телевидения не могла пройти спокойная дискуссия Зверева и Гинцбурга, — а Кургиняна послали бы нафиг? Почему они не могли дискутировать? Откуда взялся тоталитарный запрет на дискуссию? Я не утверждаю, у кого в распоряжении истина, я спрашиваю, почему эту истину перестали искать вместе с народом в дискуссии? Что это за странное проявление демократии? Ну пусть специалисты спорят! Почему зажали рот Левиту — нобелевскому лауреату, вполне себе израильскому, руководителю института? Почему зажали рот еще очень многим? Откуда взялся этот бред с запретами? Что это за репетиция? Чего?!
А теперь мы видим, что происходит на ассамблее ВОЗ! Это прямая заявка на мировую власть. Это подряд вносимые поправки, это концептуальные нулевые и прочие документы. Это не мелочь! Можно три дня обсуждать, как именно они «прут рогом» к власти. Ну, а это же не они прут! Кто они такие? Кто такой этот Гебрейесус — ну кто он такой? Он прыщ на ровном месте! Это прут те, кто купили ВОЗ. Она куплена на корню во имя осуществления некой диктатуры. А в этой диктатуре какое место занимает человек, и как она связана с другими видами диктатуры?
Вам говорят: «Вы развивающаяся страна».
Вам говорят: «Без „зеленой“ экономики ни тпру, ни ну».
Вы не можете развиваться так, как развивались другие страны. Вы не можете повторить их путь развития. Вы должны сходу идти в «зеленую» экономику. Они говорят: «А где деньги?» — Им отвечают: «Займите! Ну, возьмите займы». Они берут займы и оказываются в абсолютном небытии за счет этих займов. Они уничтожены ими. И дальше им диктуют то, что нужно, чтобы понижать численность населения. Чтобы уничтожать это самое здоровье, а вовсе не поднимать его. И это никакая не конспирология. Это уже кричат со всех мировых элитных трибун. Просто это надо увидеть.
И, наконец, если уже говорить о том, какое противостояние было у нас с этим самым Западом: оно же происходило не вокруг отдельных конфессиональных проблем — скажем, исхождения Святого Духа токмо от Отца или и от Сына. Оно происходило вокруг любви и смерти! И когда рухнул Советский Союз, то один из его обрушителей, совсем не глупый человек — папа Иоанн Павел II вдруг сказал: «Мы обрушили Советский Союз и построили цивилизацию смерти».
Так что сейчас конфликты — метафизический, политический и прочие — происходят между цивилизацией любви и цивилизацией смерти.
И вот здесь я опять возвращаюсь к Сталину: в каком-то смысле что Сталин, что апостол Павел. Наши либеральные интеллигенты хотели представить Сталина идиотом. Ну вот уж чего не было, того не было.
Меня потрясало, как я разговаривал с какими-то либеральными вроде бы высоколобыми людьми. Они говорят: «Мы разочаровались в Ленине, потому что оказалось, что он плыл на лодке, видел зайцев и не спасал, а бил веслом». Я говорю: «Милые мои, он не Дед Мазай, он людей убивал, не только зайцев! Он был очень жестким человеком». Но он был человеком, который в 1918 году, когда власть большевиков шаталась как никогда, а сам он был при смерти, отправил последние военные части, сырье и всё остальное — на строительство Волховской электростанции. А потом, когда чуть-чуть оклемался, кончилась Гражданская война — сразу была электрификация. Это были люди, грезившие техническим прогрессом. Они с ума сходили по техническому прогрессу. Ленин, Красин, Кржижановский, Сталин — все в одной команде. Поэтому они могли что-то сделать. Они этого безумно хотели!
Привожу по этому поводу историческую справку. Всё то, или большинство из того, что сделал в итоге Сталин, было разработано в имперскую эпоху начальником главного артиллерийского управления генштаба Российской имперской армии Маниковским. Он говорил о необходимости переходить к революционным моделям, догоняя Запад, и подробно это всё расписал. Но когда он пришел к царю, тот сказал: «Это сумасшедший! Что он имеет в виду, как это может быть?» А большевики взяли на вооружение модели Маниковского, с поправками на Кржижановского, Канторовича и много еще кого. Но они взяли на вооружение эти модели и реализовали их.
Вопрос же не только в том, что рационально делать. Мне всё время, когда я предлагаю оценку ситуации, говорят: «А что делать? Вот Ленин написал работу „Что делать?“. Я говорю: „А вы читали эту работу? Там ни одной строчки про то, что делать, нет. Там написано только, как строить субъект — „Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!“ — как строить партию. Он грезил созданием субъекта, то есть тем, кто будет делать необходимое, а не что делать. А что делать — он разбирался по ходу». В «Апрельских тезисах» одно, потом другое, а потом третье. Не в этом же дело.
Дело в том, что внутри этого была острота понимания, что либо Россия будет очень-очень-очень сильной, либо она будет уничтожена. И Сталин об этом писал, насчет десяти лет: «Мы должны пробежать путь европейских стран за 10 лет, иначе нас сомнут». Главная ошибка была в том, что потом сказали, что «не сомнут». Что «если станем, как все, станем нормальными, угомонимся, успокоимся и затишимся, то войдем в семью европейских стран, и вместе с ними будем жить припеваючи» — и всё. Это сказали, и что теперь? На протяжении всего этого времени говорилось: «Мы всё купим. Нам главное продать правильные энергоносители — и всё купим». Ну и как? Купили?! Нет, я отдаю должное нашим мастерам, которые мимо всех этих санкций что-то провозят нелегально. Это отдельный вопрос. Но не в нем же дело.
В 2000 году или чуть позже Павловский, Марков — никто, может быть, не помнит, но это были очень известные люди, тогда был апофеоз этих экспертов, — они пригласили меня на высокостатусный мозговой штурм, организованный ими на уровне Кремля. Тема была заявлена учредителями так: «Энергетические войны». Черным по белому. Я заинтересовался, пришел. Как только организаторы этого, подчеркну, очень высокостатусного начинания предложили собравшимся обсудить эту тему, встал очень высокий представитель одной из наших выдающихся крупнейших топливных корпораций — великолепно одетый, плечистый, просто веяло родным комитетом госбезопасности — и сказал: «Какие еще энергетические войны? Вы что, хотите нас рассорить с западными партнерами? Энергетические войны — это возмутительная ахинея!» Значит, он пришел на конференцию, которая так названа, чтобы ее подорвать. «Надо изменить название!» Растерянные организаторы, понимая, что перед ними очень высокое лицо, начали говорить: «Ну мы не знаем… Ну вы тогда скажите, как? Например, „энергетическая конкуренция“? — „Какая конкуренция? Партнерство, сотрудничество!»
Мне надоело, я встаю и говорю: «Скажите, пожалуйста — всё это замечательно, — а как быть с западными странами? Вот я читаю лекции и в Пекине, и в Дели, и в Тель-Авиве, и в Лондоне — и везде речь идет об энергетических войнах. Или вот книги классические: Дэниэла Ергина — „Добыча“ и другие, множество книг по этим войнам. Вы предлагаете их сжечь?» Он говорит: «Так вот вы и читайте лекции в вашем Пекине, в Дели, лучше всего в Тель-Авиве, а не в Москве. А здесь — не надо!» Вы меня услышали? «А здесь не надо!»
Так что, «Северный поток» жив? Мне приснилось, что он взорван? Или нет? Это не энергетическая война? А что это? А теперь надо ждать, когда будет взорван «Южный поток»? Но мы же понимаем, что на самом деле всё в этом смысле является войнами.

И медицина — территория войны, и биология, и наука как таковая, и представление о человеке. Был такой философ — Бергсон, который говорил: «Ну не надо, не надо описывать живое в категориях мертвого. Это бессмысленно». Хорошо, это философия. Был такой Вудрофф, английский юрист, который приехал в Калькутту, — очень честный человек, такой классический, хороший англичанин (это было давно, 100 лет назад), железный, упорный, упрямый, правильный; взял себе индийского гуру, начал делать все упражнения и исследовать всё. И потом опубликовал книгу, ему за это дали рыцарское звание, он стал сэром Артуром Авалоном. Он сказал: «Да всё понятно: нади, жизненные восточные каналы — это нервы, чакры — это плексусы, ну и так далее». И все обрадовались. Только потом этим занялись не юристы, а медики, которым надо было проводить операции без наркоза. И выяснилось, что где-то действительно, может, какой-то один канальчик совпадает с нервом, а соседний — не совпадает. При этом иглоукалывание есть, и лечить приходится, и очень часто.
Значит, смысл заключается в том, что внутри всего этого дела жизнью придется заниматься как жизнью. И пока здесь, в России, не захотят жить опять по-крупному, не будут и рожать. А вот когда захотят и когда вернется любовь, то будет всё: и настоящее противостояние цивилизации смерти, и многое другое. А если этого не будет, на горле у человечества замкнется нечто. И мне кажется, что сейчас самое время обсуждать очень простую и зловещую тему — «дегуманизация медицины». Происходит стремительная дегуманизация медицины. Гуманизм не такое простое понятие.
Получилось каким-то странным способом, что когда «накрылся» Советский Союз, я был в горячих точках и видел, что происходит в Таджикистане в ходе этого распада: маленькие дети с содранной кожей. И то, что мы видим сейчас — последствия того же. Это наша беда. Вышло так, что вместе с коммунизмом — чем бы он на чей взгляд ни был — рухнул гуманизм. И началась стремительная дегуманизация всего. А при дегуманизации ничего, кроме смерти, не будет. И чем выше будет уровень дегуманизации технологий, тем быстрее она будет подбираться.
Потому что, может быть, главное — просто любить жизнь. И с этого всё начинается. С того, что воля к ней есть. На каждом этапе катастрофических процессов — а те процессы, которые сейчас идут, конечно, катастрофичны — на каждом из этих этапов есть возможность всё преодолеть, беда не в этом. Это как с заболеваниями. Беда в другом: что на каждом этапе ухудшения ситуации нужно еще больше воли, чтобы ситуацию преодолеть, — а ее становится всё меньше. Люди умирают от смерти.
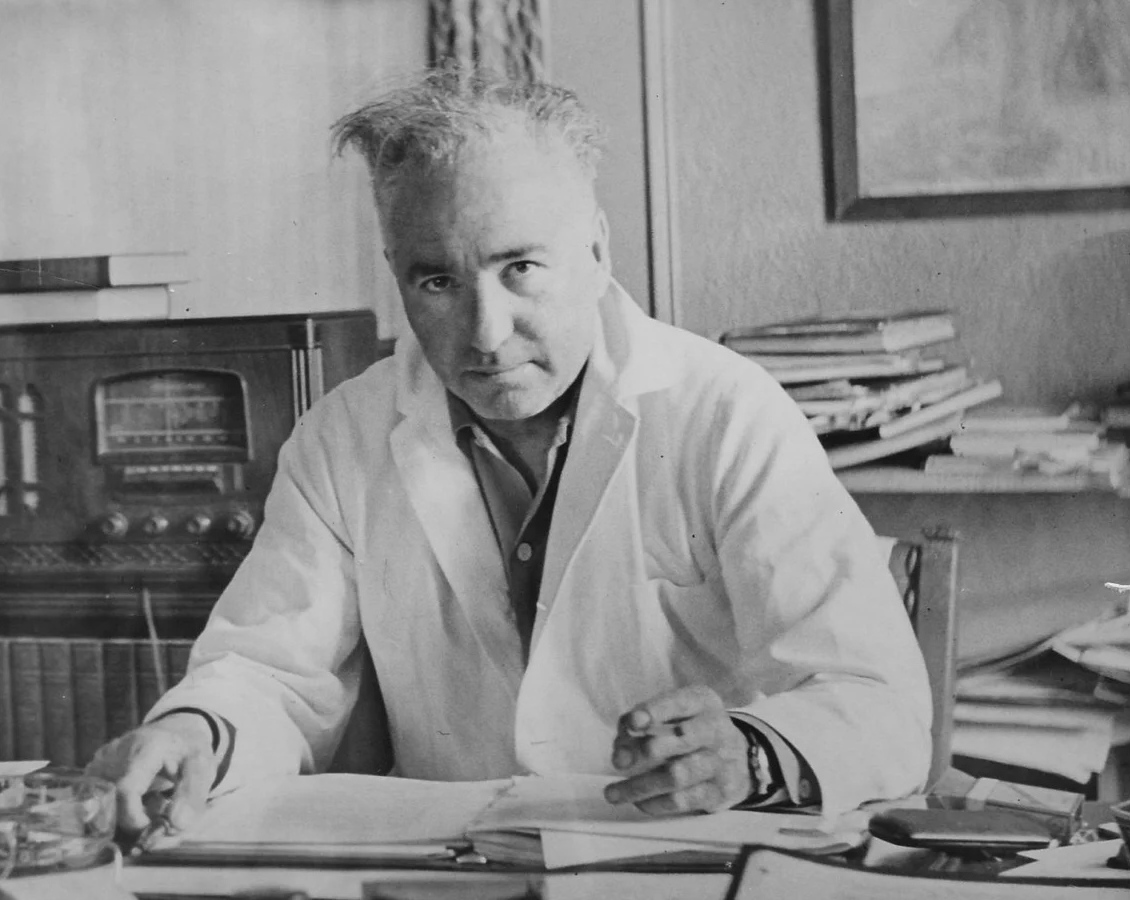
Был такой оппонент Фрейда — Вильгельм Райх, которого осмеивали, он эту жизненную энергию вывел, назвал ее «оргон», что-то мерил. Только вот странно, что его одновременно исключили из международной психоаналитической ассоциации, из компартии Германии, арестовали. И всё бы ничего — сожгли все его книги.
А речь там шла именно о том, что как ты ни «при рогом» и ни отрицай существование жизненной силы, жизненной энергии — а она есть. Ну вот есть и есть, и работает. Так же, как работает и смерть. Кстати, Райх полемизировал с Фрейдом по поводу Танатоса и его поздних работ — «По ту сторону принципа удовольствия» и так далее. И зря полемизировал, потому что есть и то, и другое.
Но главное-то: мы чего хотим? Мы действительно хотим, чтобы росло население, мы хотим, чтобы люди были более здоровыми? Тогда весь тот тренд, который идет с Запада, не имеет к этому никакого отношения. Какая ВОЗ?! Можно дискутировать по отдельным научным вопросам, наука должна развиваться, никто никаких запретов на нее накладывать не должен — только вот Запад их накладывает.
И самое страшное в этой вакцинации было даже не то, сколько народа умерло — авторитет науки рухнул. Наука была тем последним, во что верили. Ну кто-то религиозен, верит в бога, а кто-то нет. И нужен был какой-то общий знаменатель. Наука опозорилась, она политизировалась и стала угождать. В нее поселили страх, и страх что-нибудь не то сказать по этому вопросу был сильнее, чем страх сталинского режима. То, что грядет впереди, ни к какой свободе отношения не имеет. И я хочу в заключение прочитать маленький кусочек из того самого забытого произведения Твардовского «Теркин на том свете», с которого начинал:
Вечный сон. Закон природы.
Видя это всё вокруг,
Своего экскурсовода
Теркин спрашивает вдруг:
— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, се ли — должен кто-то
Делать что-то?
— То-то — нет.
В том-то вся и закавыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.
— Как же так — без производства,
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
— Нет, не только. И учет.
В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это всё мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада…
— Ах, вот так! Тогда, пожалуй,
Ничего. А то беда.
Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.
А в конце, когда его экскурсовод, его «Вергилий» в путешествии по тому свету — спрашивает:
Всё же — как решаешь, Теркин?
— Да как есть: решаю жить.
Вот как только решение «жить» будет принято и будет понятно, какие на той стороне силы смерти — тогда и начнется борьба. А вместе с борьбой женщины начнут рожать. Мне так кажется. Притом что все остальные меры правильные должны быть обязательно применены. Никогда нельзя обойтись без профессионалов. Я бесконечно уважаю и узкий профессионализм, и медицинский профессионализм в целом. Но как только исчезает картина, сборка, исчезает философия, исчезает что-то совсем-совсем крупное — всё начинает распадаться. И человек тоже. А вне этой полноты и жизни ничего не будет, и русские это знают с незапамятных времен. И с незапамятных времен шли этим путем. Их на тридцать лет совратили, предложив другое направление.
Но я верю в то, что всё равно каким-то образом это будет изменено, ведь в конце концов не Китайская Народная Республика с ее гигантскими достижениями в экономике, а вот эта раздолбанная Россия бросила сейчас вызов мировому злу. Ведь по факту — бросила! И пока мы разговариваем, много людей подтверждают этот выбор жизнью, а не словами, — значит, какие-то надежды, безусловно, есть. Это надежда на то, что будет жизнь.
Помните это: «Знамя страны моей мы пронесем через…» — через что? — «Через миры и века». Когда есть «миры и века», когда есть большой смысл человеческой жизни, тогда и рожают — во имя этого смысла. При всех частностях: кто-то «залетел», кто-то хочет «лишнего» беби, кто-то еще чего-то, а магистрально происходит именно так.
Благодарю за внимание.
Модератор Варзин С. А., д. м. н., доцент: Сергей Ервандович, после Вашего выступления хочется посидеть в тишине, как после хорошей гениальной симфонии. Ваш вопрос о падении авторитета науки и падении всего дает ответы, почему это происходит: как только утрачивается правда, исчезает в обществе честность, идет заискивание, говорение того, «чего вам угодно», тут начинаются сбои и все проблемы.
Кто-то сказал, что «мир спасет красота» — да, она ласкает глаз, но мир-то спасет правда. Наша конференция, или сейчас уже конгресс, — в общем-то, согласитесь, на наших сессиях, конференциях звучит правда. Может быть, не всегда, но мы стараемся говорить правду и называть вещи своими именами.
Сергей Кургинян: Это замечательно. Просто замечательно.
Модератор Варзин С. А., д. м. н., доцент: Мы несколько лет назад публиковали нашу резолюцию. И нам надоело говорить о том, что всё плохо. Думаем: ну сколько раз можно говорить, что это плохо, то плохо. А пути какие? И мы увидели всего три пути. Я ничего страшного антигосударственного не говорю, я говорю правду.
Первое. Должна быть радикально изменена идеология общества. Рожают или не рожают, любят или не любят — идеология какая?
Второе. Тот кадровый коллектив, который смотрит в рот своему начальнику и говорит то, что от него хочет начальник, то есть лживая когорта руководителей — она должна быть отправлена в отставку. Должна прийти новая смена кадров. Вот это самые главные моменты, о которых мы уже печатно, публично писали. И самое удивительное: наши посылы вверх остаются безответными. Им всё равно!
Сергей Кургинян: Царствуют технократизм и прагматика. И что такое теперь какой-нибудь директор завода по выпуску медицинской аппаратуры? Раньше это был директор, знавший, что его аппараты будут лечить людей. Теперь это мальчик, который приходит и смотрит IPO. Ему до фени остальное. Он капитализацией занят. Он не аппаратурой занят. Ну, а что касается всего остального, то могу сказать, что мы должны быть счастливы, что у нас хорошие отношения с Белоруссией и поэтому у нас есть шарикоподшипники.
Матвеев В.В., д. т. н., к. э. н., профессор: Уважаемый Сергей Ервандович, Вы в начале своего выступления трижды четко заявили: «Это невозможно… это невозможно… это невозможно». Вопрос к Вам как к кандидату физико-математических наук. Если невозможно, то вероятность равняется нулю. Соответственно, невозможно по каким причинам? По объективным — соотношениям Сатурна с Юпитером, либо это субъективные какие-то факторы. Если субъективные, то, соответственно, Вы полностью отрицаете любое управление социально-экономических систем. Либо это невозможно ввиду низкой квалификации, и 18-й раз проходит конференция-конгресс. Что это такое опять-таки в переводе на научный язык? Это мозговая атака. Собрались ученые, и каждый год мы определяем какие-то новые проблемы и пути их решения.
И вот даже в названии «Здоровье — основа человеческого потенциала» двоеточие и дальше: «проблемы и пути их решения». Если мы заявляем на конференции, или на конгрессе, что это невозможно, тогда, соответственно, наше собрание никчемно. Поэтому здесь вопрос состоит в том, что мы выявляем некоторые противоречия в предметной области и, соответственно, вместе находим их пути решения, в том числе и объединяясь.
Так вот, по каким факторам Вы заявляете, что «невозможно, невозможно, невозможно»?
Сергей Кургинян: Я, честно, не помню, чтобы я такое заявлял. Что именно? Что невозможно? Удобная жизнь? Я сказал, что невозможна удобная жизнь. Три раза. Я же не сказал: «Вообще всё невозможно». Или «данный конгресс невозможен» — тогда зачем я на него приехал? Наверное, я просто не очень четко выразился, извините, пожалуйста. Но я вам сказал о том, что невозможна удобная жизнь. А невозможно она потому, что когда страну все хотят уничтожить, то жить удобно она не может. Она не Дания. Вот что я сказал. И это совершенно не значит, что невозможен конгресс, существование России. Я сказал, что невозможна удобная жизнь. Вы меня не расслышали. Извините.






















