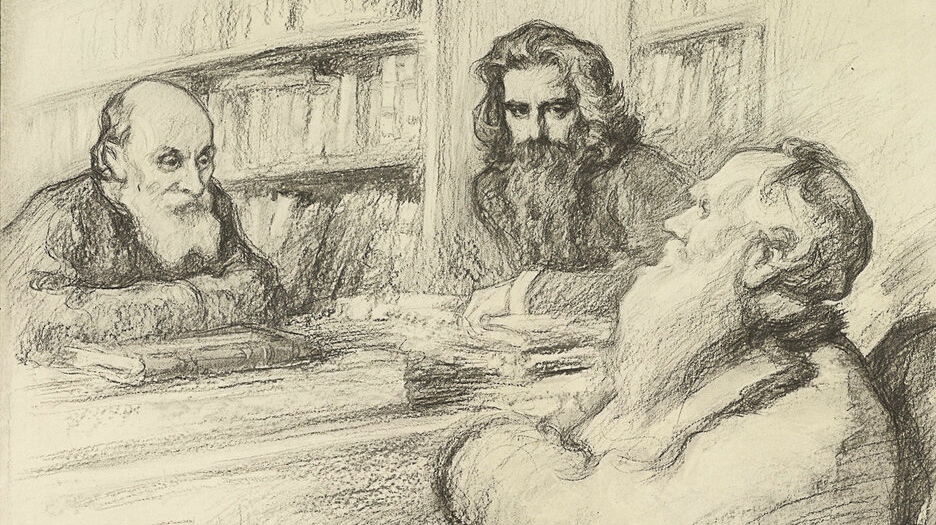«Я всё равно была уверена, что мы будем жить» — воспоминания о блокадном Ленинграде

С Ириной Витальевной мы познакомились на выставке «Подвигу Блокадного Ленинграда посвящается». Она стояла у картины Марины Козловской «Блокадные будни», на которой изображено, как в зимний солнечный день дети набирают воду из полыньи.

— Здесь отличный спуск… А у нас там надо было просто карабкаться по обледенелому берегу… Кажется, на Малой Невке это было. У нас обычно мама ходила за водой. Я помню это только один раз. Наверное, она снег топила…
Мы разговорились, и Ирина Витальевна рассказала про свою жизнь в блокадном городе, про эвакуацию. Конечно, разговор коснулся и голода, который испытывали ленинградцы. Ирина Витальевна жила с семьей в блокадном городе меньше года, но это был самое суровое время — зима 1941–1942 годов. Она художница, однако писать на эту тему не может — слишком тяжело. С сожалением отметила, что родственники, родившиеся недавно, не интересуются блокадой, а некоторые знакомые иногда задают странные вопросы.
— У меня есть знакомая, женщина лет за 50, она преподает в каком-то институте. Спрашивала мнение людей моего поколения — надо ли было сдавать немцам город или не надо? Я ответила: конечно, не надо! Они же, немцы, обязательно разграбили бы наш Эрмитаж. Только поэтому нельзя было сдавать. Уж я не говорю о том, что и людей уничтожили бы. Тем более, что наш город считался основой коммунистической революции.
— В нашей квартире было трое семей. Они все работали. А у нас мама — инвалид третьей группы, она тоже была «иждивенкой». Нас, детей, было трое. Мне, самой старшей, в первый год блокады 14 декабря исполнилось 10 лет, братья были младше — 6 и 4 года.
— Папа строил дачу под Вырицей, и мы думали, что зиму там переживем, увезли туда теплую одежду. Поэтому здесь во время блокады мы оказались без теплых вещей. Но люди помогли, давали вещи. Я помню, у меня было какое-то пальтишко.
— Я почему-то была уверена, что все будет хорошо. Мне не приходило в голову, что мы умрем. В начале, когда тревогу объявляли, мы не обращали внимания — играли на улице. Потом, конечно, стали бояться. Ночевали несколько раз в убежище. Но у нас нечего было бомбить, заводов не было. Наш дом стоял рядом с садом Дзержинского, по Кировскому проспекту, сейчас это Каменноостровский проспект. Только один раз что-то бомбили на Вяземском. И обстрел только слышен был, нас не обстреливали. А потом появилось равнодушие. Со временем все больше и больше — полное безразличие, страха перед бомбежками не было. Ну, нисколько не страшно было, мы очень истощились. И наши документы сохранились, никаких проблем не возникло, когда мы оформляли бумаги как блокадники. А в других районах были случаи, когда разбомбили ЖЭК и документы не сохранились…
— Нам повезло. Ночами-то была холодрыга. Топили мы плиты, которые в нашем доме были на каждой кухне. А где-то ведь не было плит… В плите была топка, внизу поддувало, сверху две комфорки. Эти плиты нас спасали. Люди ломали и сжигали в плитах пол. А потом маме посоветовали использовать уголь. Рядом с нашим домом была кочегарка, что-то вроде общественной прачечной, и около нее была куча каменного угля. Не такая большая куча, видимо, не для всех домов. И те, кто знал, сделали в заборе дырку и лазили туда за углем. Я помню, как один раз ходила за этим углем.
— Я в 1941 году перешла в третий класс, но во время блокады в школу не ходила. Меня мама одну не пускала на улицу, она боялась за нас, так как были разговоры про людоедство. Да и мы были истощены.
— Ведь мало того, что кусочек хлеба маленький, он еще ведь очень тяжелый был, там была кора. Мама утром нам давала хлеб, который получала по карточкам, а потом, в течение дня, варила столярный клей, который покупала на рынке. Она из него готовила студень, и мы его ели с кусочками столетника — у нас был большой столетник, как дерево. И еще мама разваривала для еды вещи.
— Сначала мы съели подушку, в которой начинкой был высушенный мох. Потом мы съели все кожаные ремни, которые были в доме, верх сандалий. Даже подошву сандалий мама пыталась варить. Но она оказалась несъедобной. В конце уже нечего было варить. Дядя Вася, наш сосед, работал на окопах, его в армию не взяли, хотя он был молодой. Мама просила его привозить торф и кормила нас этим торфом, но он совсем не лез в горло. А потом, помню, что детям давали чуть-чуть сахарного песку.
— За хлебом по карточкам ходила мама. Может быть, я и ходила иногда, но я этого не помню. Это было опасно. Мама сама один раз потеряла карточки, это было ужасно. Мне это очень тяжело вспоминать. Мне-то что? Мама плакала, а я все равно была уверена, что мы будем жить. Я представляла авоську с круглым хлебом и батоном. Я это просто видела как наяву.
— Мама была очень эмоциональной. Подумайте, что должна была испытать потерявшая карточки женщина, если у нее трое детей. Помню, она потом кому-то рассказывала, как представила три маленьких трупика… Потом уже, когда мамы не стало, я поняла, что она хотела. Она с горя чуть не уморила нас углекислым газом. Решила, что будет лучше, если мы все заснем и не проснемся. Натопила плиту и уложила нас на полу прямо перед ней, хотя обычно мы спали на кровати. Я помню, как не хотела ложиться, но мама заставляла, просила меня со слезами. Мне ее стало так жалко, что я легла. И сладко заснула, потому что было очень тепло. А проснулась я от холода. Это соседка, тетя Дуся, открыла все наружные двери нараспашку и ругала маму.
— Тетя Дуся, оказывается, когда шла на работу, нашла наши карточки, которые мама выронила рядом с дверью на лестнице. Там было темно. Наверное, поэтому мама и не заметила, фонариков-то не было. Возвратиться сразу соседка не могла, видимо, торопилась. И когда вернулась, она эти карточки маме отдала.
— Мой отец был моряком в запасе, но потом переучился на минометчика и служил где-то на Ленинградском фронте. Он попал в госпиталь в 1942 году, а когда встал на ноги, его демобилизовали. Когда папа вернулся домой — он был совсем как старик, хотя ему было 34 года. Нас вместе эвакуировали.
— Мне-то было что… Я верила, что мы переживем! Нас эвакуировали в конце марта 1942 года. Интересно было, как нас вывозили. Помню, что уехали только со второго раза. В первый раз не хватило сил. Мы сделали из старых лыж полозья, на фанеру положили рюкзак с вещами и посадили младшего брата. Но родители были очень истощены, смогли добраться только до дворца культуры имени Ленсовета и почувствовали, что дальше идти не могут. Надо было, кажется, на Финляндский вокзал. Вернулись домой, выкинули всё. Взяли только тарелку алюминиевую, кастрюльку и ложки. И дошли до вокзала.
— Через озеро ехали на грузовике. Лед опустился, сверху была вода. Люди все — большинство хорошие. Женщины посадили нас, детей, в серединку. Ехали под обстрелом, но было полное равнодушие — нисколько не страшно. Перед нами машина ушла под лед, но я это не видела, только слышала, как об этом говорили.
— В поезде была теплушка. В дороге многие умирали. Добирались мы целый месяц до Кубани, до станции Лабинская. Нас бесплатно подселили в хороший дом, к хозяевам. Сейчас ругают сталинское время, а ведь тогда о людях заботились. Кормили в совхозе первое время тоже бесплатно, давали вкусный украинский борщ с мясом. Потом уже, кажется, за еду надо было платить. Когда мы уже отъелись, я помню, как мальчишки побежали вперед. Я с мамой тогда шла и услышала, как взрослые говорили: смотрите, дети побежали. До этого мы не бегали.
— Папа дорогой от нас отстал, когда пошел за водой. Его отправили другим эшелоном, и он проехал мимо нашей станции. Он нас случайно нашел. Нагнулся за кусочком газеты на земле, чтобы свернуть папиросу, а на этом кусочке было написано, куда обращаться тем, кто потерял семью.
— Потом наше село попало под немцев, ближе к осени. Но тут нам тоже повезло. Моя невестка из Белоруссии рассказывала, как у них на бреющем полете самолет расстреливал мирных жителей. А еще она рассказала, как убили молодую женщину, которая не хотела отдавать корову. Я такого в нашем селе не видела. Но немцы увезли куда-то всех евреев. Наверное, они все погибли.
— При немцах мы тоже недоедали. Когда они пришли, хозяева, у которых мы жили, нас выселили. У них дом был богаче, чем у других, видимо, они в прошлом были кулаками. Но я помню, как хозяйка, Ирина Георгиевна, давала мне стакан молока. И жена председателя тоже что-то из еды давала. Отступали немцы весной, быстро, за одну ночь. Я видела, как отступали с ними и местные казаки на конях.
Ирина Витальевна не раз за время нашей беседы подчеркивала, что верила в лучшее. Она верила в лучшее, когда слышала обстрелы, когда было холодно и голодно, когда мама потеряла карточки, когда после эвакуации в их село пришли немцы. И она сталкивалась с хорошими людьми. Теплые вещи, возвращенные карточки, помощь в дороге, бесплатная еда в эвакуации…
В книге Анатолия Королькевича «А музы не молчали…», рассказывающей о жизни актеров в блокадном городе, автор вывел закономерность — одиночки погибали, а в коллективе люди выживали. Подобная закономерность мне увиделась и в рассказе Ирины Витальевны. Не потому ли выстоял Ленинград, что большинство людей — люди хорошие? Да, кому-то повезло меньше, чем выжившим. Кто-то не избежал бомбежек и голодной смерти. Но оставшиеся жить обязаны жизнью другим людям: и тем, кто делил вместе с ними тяготы блокадного быта, и тем, кто ковал победу — у станков или на передовой.
Все меньше и меньше становится свидетелей войны. Люди уходят, оставляя в памяти окружающих свои рассказы об этом тяжелом для страны времени. И нам, остающимся, надо находить закономерности в этих рассказах, выделять главное, учиться жить и передавать эти знания будущим поколениям.