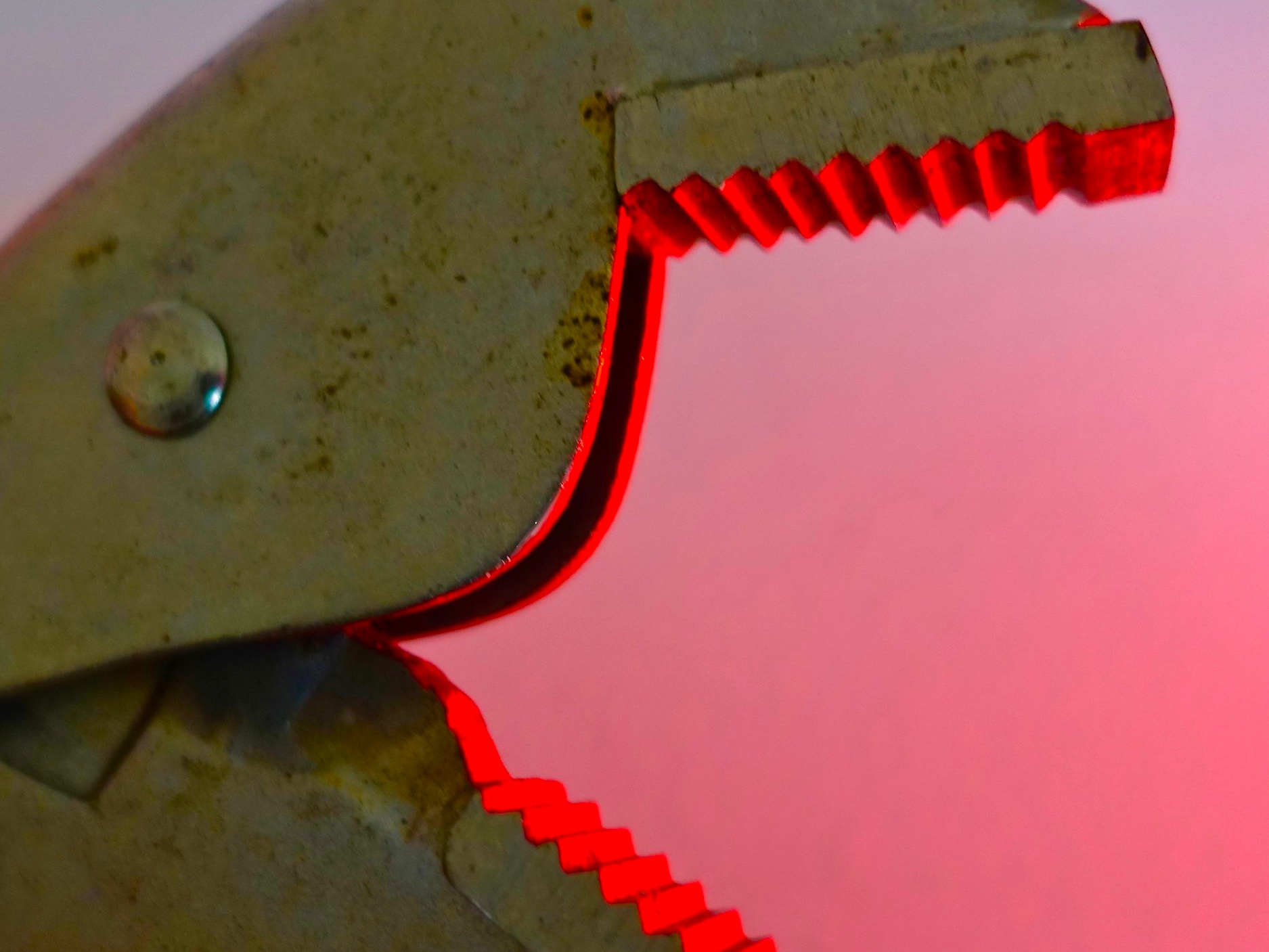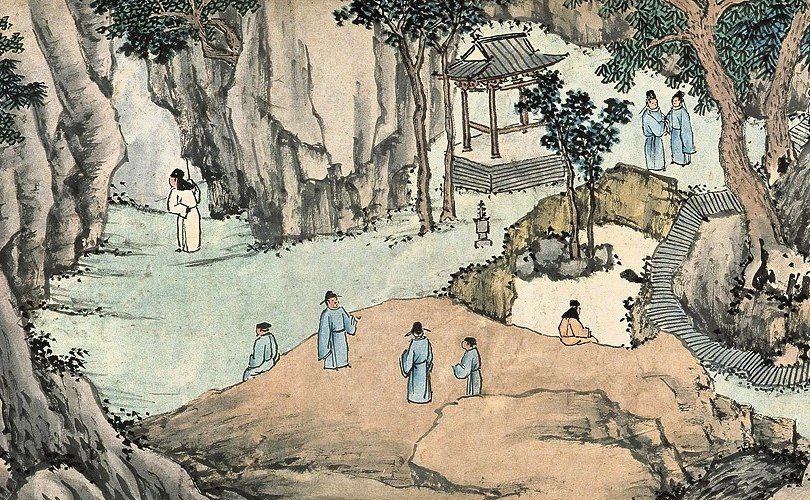«Музыка не может делать вид, что все в порядке»

1
Павел Степанович, преподаватель композиции, выбирал программу для выступлений на освобожденных территориях. В этот момент он хотел максимально отстраниться от себя, своих предпочтений, даже музыкального вкуса, и понять, что нужно тем, кто там живет. А для этого нужно было понять, кто они.
Украина представлялась ему заблудшей девкой, которая лишилась разума так же, как это происходит на собраниях в украинских сёлах, когда все начинают кричать наперебой и всё заканчивается дракой, чем угодно. И если в Российской Империи, в СССР, по его мнению, так бузить можно было — под защитой «надежного родителя», то теперь «взрослые дяди» увидели, как дети играются, накормили пирожными, а потом заставили делать то, что им нужно.
Павел Степанович с горечью понимал, что почти вся музыка, которую преподавали и преподают в музыкальных школах, исполняют в концертных залах постсоветского пространства, проходит мимо ушей, иначе не было бы того, что происходит на Украине, не распался бы СССР и вообще все в жизни было бы по-другому.
Он думал о том, что из массы культурных впечатлений глубоко проникает в человека очень мало. Но если бы и этого не происходило…
Он не хотел выбирать что-то сложное для выступления московских музыкантов, хотя все время ловил себя на мысли, что Ленинградская симфония Шостаковича — очень даже сложное произведение. И также не давало ему покоя, что большая часть классической музыки, которую он знал, довольно субъективна. А сейчас были нужны вещи, в которых композитор забыл про себя и перенесся в мир, про который говорят «на миру и смерть красна».
Ему было тем более трудно, что долгое время его мало интересовал кто-то, кроме Вагнера.
Преподаватель вспомнил, как в музыкальной школе разучивал «12 пьес средней трудности для фортепиано Чайковского». Он находился в аудитории и сел за рояль.
Представьте себе плотника, который волею судеб лет десять не держал в руках молотка, и вдруг возник случай, когда это понадобилось. Так и Павел Степанович помнил только первые аккорды, но стоило ему взять их, как он вспоминал следующие, и так «распутывал» клубок до конца.
«Какая хорошая музыка! — думал он. — Как я раньше жил без неё? Был как человек, который уставился в окно и не видит, что за его спиной стоит красавица».
Его потрясла несубъективность Чайковского. Насколько этому композитору удалось написать что-то «общезначимое», но не специально, а само собой. Как человек, который сел за стол, рассказывает что-то простое, но вместе с тем очень важное, и другие заслушиваются.
Это была музыка простая, но не примитивная, очень открытая и светлая. И чувствовалось, что это светлое — не «светленькое», не дешевое, а созданное человеком, который пережил и большую радость, и большую муку.

Преподаватель сыграл 12 пьес по несколько раз и хотел ещё раз попасть туда, где он находил столь нужное. Ввалились слушатели.
— Нам предстоит выступить в городе на освобожденной территории, — сказал Павел Степанович. — Программу я отчасти составил, но хочу услышать ваши предложения.
— Что-то из «24 прелюдий» Шопена. Это мировая лирика. Если бы нужно было отправиться в космос и можно было взять с собой только одну запись, я был взял ее. С души все начинается, — сказал один.
— Увертюру «Эгмонта» Бетховена нужно включить, — добавил всклокоченный парень. — Это музыка восстания. И худо ли, бедно, на Украине восстали против поработителей.
— Без Свиридова не обойтись, — сказала низенькая студентка. Из «Метели» что-то надо взять. Это гениальная русская музыка.
— У Баха много всего… Но есть одна вещь, слушая которую словно видишь, как строится башня. Вспомню. Вот ее бы взять.
— Мне кажется, «Богатырские ворота»… «в стольном городе во Киеве» нужно, — добавил парень, неформально одетый. От него редко можно было услышать суждения о русскости, немецкости и прочем.
Преподавателю почему-то показалось, что все это напоминает сборы в последний путь. «И точно так же, как, представ перед господом, ты не получишь много часов на свой „доклад“, так и здесь нужно будет сказать только самое необходимое. Наверное, так и бывает, когда решается судьба», — подумал он, а внешне — переводил глаза с одного студента на другого.
Когда шла война в Афганистане, ему казалось, что русские не побеждают, потому что в Москве играют плохие концерты. Когда расстреливали Белый дом, он думал, что это музыка не приходит на помощь его защитникам за какую-то вину. Когда началась война в Чечне, она тоже казалась ему расплатой за преступление перед музыкой. Но начало спецоперации, которое крайне его воодушевило, он ощущал как старт искупления большого греха, начало восстановления высшей справедливости. И с верой именно в эту справедливость русские победили Наполеона и Гитлера, а теперь должны пройти страшные испытания и одолеть, в конечном счете, НАТО.
Павел Степанович обратил внимание, что ученики спокойно смотрят на него, давая течение его мысли.
— К завтрашнему дню составлю окончательную программу.
«Вагнер словно опустился на дно Рейна, чтобы добыть жизнь для немецкого народа. Этот народ потом захотел уничтожить русский народ. Потомки этих „уничтожителей“ сильно помогли американцам. А Чайковский слушал Вагнера и вбирал это богатство жизни, чтобы создать нечто отличное, совсем не менее мощное», — думал он, идя медленным шагом домой.
Павел Степанович не сомневался, что от выступления московских музыкантов на освобожденной территории зависит ход спецоперации. Так он относился к музыке.
2
— Что такое ваша гребаная легкость? Половина вуза сидит на антидепрессантах, — не то чтобы студент, который это говорил, защищал любителей таблеток. Он хотел понять истину — с его уровнем гуманитарных знаний, культуры и прочего. А уровень этот складывался не только из занятий музыкой, к которым у него, конечно, были способности, а ещё из большого количества времени, проведённого в интернете, из общения со средой, которая до недавнего времени совсем мало напоминала «могучую кучку». — Чайковский хорош, не спорю, — продолжал он, — но после него все развивалось определённым образом и пришло к этому неуемному приему антидепрессантов. И вполне возможно, Пётр Ильич, учись он с нами на курсе, тоже на них бы подсел.
— Андрюх, да ты хоть сам пробовал их?
— Я нет, но кругом — только о них и говорят.
— Может, как мы, и говорят?
— Может быть, но эпоха депрессивная, не спорь. И музыка не может делать вид, что все в порядке.
— Но не должна же она загонять в большую ещё…
— Не должна. Она вообще ничего не должна. Поэтому, когда на биеннале приглашают только определенного типа авторов, это подстава, да.
— Да все денег хотят. И Чайковский хотел.
— Может быть. Чайковский при этом умел писать.
— А знаешь, я сейчас подумал: если бы он был жив, то не обращал бы внимания на эту конъюнктуру. Мы слишком вокруг оглядываемся. А гений это «вокруг» творит.
— А ведь и правда!
Проводник следующего из Москвы на юг поезда нечасто слышал такие разговоры. «Как хорошо, что я здесь, взрослый и не учусь в музыкалке, — думал он. — Редкое место, где могут так достать. Особенно сольфеджио. А, ну ещё хор».

В тамбуре заиграла скрипка, и это было уже совсем необычно. Проводник прислушался. Из обоих соседних вагонов насыпались слушатели и открыли двери в тамбур.
В вагоне, где ехали музыканты, были люди с разными судьбами: потерявшие близких и недавно заключившие брак, уставшие от жизни и, наоборот, борзые, молодые и старые, неспособные отнять от лица телефон и жутко храпящие. Но все почему-то слушали звуки скрипки.
У кого-то на фронте были знакомые и родственники, у кого-то не было. Кто-то ждал повестки, кто-то был негоден. Но все чувствовали присутствие войны и то, что с каждым километром они приближаются к ней. И эта скрипка в тамбуре была неким ответом на их тревогу.
Рядом с большой русской ночью неподалёку стояла украинская ночь с заплывшим взглядом. С каждым часом за окном становилось теплее.
Однокурсники хотели взять чаю и продолжить разговор, но те, кто был ближе к тамбуру, не давали музыканту остановиться.
3
Павел Степанович не ждал от себя, что так поступит. Он не выступал уже, наверное, лет двадцать. Он проигрывал нужные партитуры на фортепиано в своей квартире, в консерваторской аудитории, но не более того. Играл он при этом хорошо, и раньше среди коллег считался хорошим пианистом.
В какой-то момент концерта он с ясностью понял, что студенты не могут передать всю полноту трагедии, которую переживает бывший Советский Союз на Украине, потому что… она «не помещается» в их душах.
И преподаватель уже после того, как все, казалось бы, закончилось, вышел к инструменту и играл Чайковского, Бетховена. Брамса, Шопена. Играл — и не мог остановиться. Он ошибался, как в двенадцать лет в музыкальной школе, когда читал с листа, даже пропускал части произведений, поскольку давно их не исполнял.
Шёл третий час концерта. Четвертый. Чтобы дать Павлу Степановичу передохнуть, студенты выходили и исполняли произведения соло, дуэтом, трио, квартетом…
Публика не расходилась. Она не понимала толком, зачем все это, но чувствовала, что происходит что-то важное.
Все, что было указано в программке, давно было отыграно до момента, как женщина средних лет подошла к сцене и села в первый ряд. В заполненном до отказа зале там почему-то оставалось место.
У неё были по-южному темные волосы и глаза, платок с виноградным орнаментом и большой смартфон. Она вначале задремала, а потом и вовсе отключилась, и все эти часы Павел Степанович видел ее красивую шею.
Преподаватель заметил, что часы показывают без двадцати четыре утра, уже сидя на приступке концертного зала и вдыхая тёплый воздух с запахом моря. Почти все, кто его слушал, были на улице. К нему быстрым шагом шёл фельдшер в потрепанном синем костюме «Скорой».
Павел Степанович был здоровым человеком и, несмотря на возраст, не имел проблем, например, с сосудами или сердцем. Но после подобного выступления и молодому человеку могла понадобиться помощь.
Фельдшер попросил Павла Степановича посмотреть на него, вытянуть руку и пошевелить пальцами. Тот спокойно сделал это. Медик ушёл. К музыканту подошла та женщина из первого ряда и ещё один мужчина и помогли подняться.
Он вдыхал южнорусский воздух и чувствовал полноту, которую в последний раз испытывал в далеком детстве. Ни победы на музыкальных конкурсах, ни свадьба, ни даже рождение сына не давали ему такого чувства. Сейчас он понимал, что несмотря на очень непростое положение на фронте, несмотря на отступления под Харьковом и в Херсоне, произошло значительное: русская земля, пусть небольшая пока ее часть, вернулась в Россию. И не от Украины, а от западных паскуд, которые не то, что Христа и мать, а себя самих продадут на детали.
Рихард Вагнер, человек, который жил и творил за столетие до него, ставший, тем не менее, его своеобразным, но близким другом, мог хотеть чего угодно, только не того, какой стала сейчас Европа, думал Павел Степанович. Но в тот же момент он вспомнил и слова Чайковского о Вагнере: «Преданно склоняясь перед пророком, я не исповедаю религии, которую он создал». Чайковский сказал это в конце жизни.

Только сейчас музыкант увидел, какая красивая слушательница помогает ему идти. Они шли в сторону кафе рядом с концертным залом, где играла музыка, совершенно отличная от той, которую он только что исполнял. Он не побоялся назвать про себя слушательницу украинкой.
Недавняя аудитория вперемешку с его студентами шла вслед за ним. В кафе не нашлось бы места и для десятой их части.
Павел Степанович и его спутники сели на скамью.
Все происходящее напоминало некую картину эпохи Ренессанса. Студенты по одному выходили на полянку у кафе и играли на скрипках, виолончелях, флейтах.
Павел Степанович потом очень удивлялся, глядя на все это в интернете. А в тот момент он будто молился, мысленно обращаясь к своим ученикам: «Запомните. Запомните это и пронесите через всю жизнь. Сидящие на антидепрессантах и не сидящие. Успешные и те, кто без работы. Любимые и нелюбимые. Те, кто считает себя русским, и те, кто не считает».
Когда сели в поезд, никто не стал брать белье. Так и повалились спать на инструменты.
Первая часть: Живущий без интернета композитор написал музыку для сериала и прославился
Вторая часть: Полегчало, или Кто стоит за Музыкой?
Третья часть: «Да за Россию я!» Что произошло с ЛГБТ-студенткой во время занятий