«Я не толстый. Я полный»
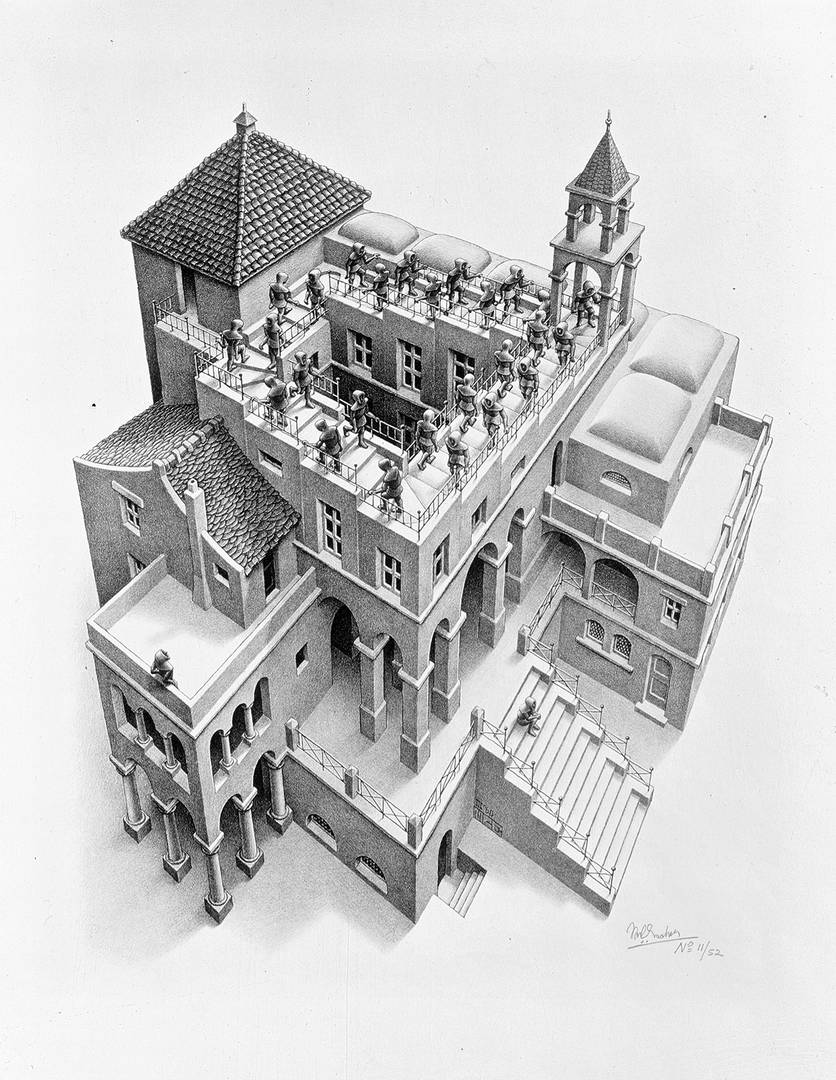
Радиопрограмма «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда», ведущая Анна Шафран, 9 декабря 2022 года
Анна Шафран: Сергей Ервандович, хотелось бы поговорить об элитах сегодня. Вопрос «национализации» элит уже давным-давно стоит на повестке дня в нашей стране и сегодня, наверное, первостепенен. Понятно, с одной стороны, что невозможно сдвинуться вперед качественно, если всё будет по-прежнему, и это новое качество нужно и в отношении элит. Другой вопрос, каким образом это качество может взяться и откуда оно может взяться? Какие у нас здесь перспективы? Должна ли смениться эта элита? И, самое главное, кто она, будущая элита России? Где и как должны коваться кадры?
Сергей Кургинян: Начать хочется с того, что положение настолько тревожное, мягко говоря, что нет желания обсуждать чисто теоретические конструкции, а хочется обсуждать ту практическую жизнь, которую мы лицезреем, и методы ее изменения или не изменения.
Что в реальности-то можно сделать?
Я уже обсуждал с вами, что армию поставили на задворки. На уголовном языке это называется «ваше место у параши». То есть по остаточному принципу. Для тех, кто не попал в бизнесмены, в бюрократы или во что-то другое престижное. Далее внутри снова негативный отбор со всеми вытекающими. А если воевать еще пятьдесят лет — а нам маячит это, — надо ее ставить в центр общества. Ну, просто придется ее туда поставить.
Но ведь когда я механически передвигаю стакан с этого места в другое — из периферии к центру, — то воздух мне не сопротивляется, а моя рука достаточно сильна, чтобы его поднять и переместить.
Теперь представим себе социальную систему. Общество вязкое. Что значит отсюда переместить какой-то социальный кластер? Это значит преодолеть сопротивление среды, по которой ты его движешь. А ведь здесь кто-то уже сидит. Значит, для того чтобы сюда нечто переставить, нужно сказать: «Будь добр, освободи место». Но он же не хочет его освобождать, правда?
Это социально-механически очень трудная операция. Среда вязкая, сопротивление огромное, нужной степени усилия нет. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас будет происходить, будет происходить следующим способом.
Существующая система постарается сделать всё для самосохранения, а с точки зрения архитектуры, подсистем, изменения конфигурации — чтобы ничего не менялось. В лучшем случае, если какой-нибудь человек совсем уж очевидным образом «накосячил», как они любят говорить, тогда действуют по принципу «этого человечка уберем, другого поставим». Но только в самом крайнем случае, а лучше — чтобы вообще ничего не менялось. И вот с этим хотят выстоять, отразить идущие атаки.
Страстность желания ничего не менять настолько велика, что лучше не видеть реальность и не понимать, что без изменений реальности ты никак не обойдешься. Лучше этого не видеть, закрыть глаза, заткнуть уши, лишь бы ничего не менять до последнего. Сознание — я наблюдаю это всё время — буквально извивается, чтобы построить такую картину, в которой ничего менять не придется.
Говорится всё время о каких-то «средствах». Причем те, кто их критикует или восхваляет, одинаково не понимают, о чем говорят. Они говорят о каком-то своем страхе или вожделении, а не о реальности. Потому что самое расхожее слово, которое я могу определить мониторингом интернета, — центр, которым я руковожу, ведет такую работу — это «договорняк». Вот сейчас какой-нибудь договорняк произойдет или не произойдет… Договорняк ужасен, договорняк желанен и так далее… И каждый раз, когда спрашиваешь: «Что вы имеете в виду?» — люди не отвечают.
У нас есть Конституция Российской Федерации. В нее введены новые субъекты. За это проголосовала вся действующая элита — Совет Федерации, Госдума. Всё. Гениальность политическая, говорю без кавычек, этого замысла была как раз в том, чтобы повязать этим всех. Без исключений. Ну, кто-то там пикнул, что голосовать не будет, но это всё мелочи, исчезающе малые величины.
Значит, для того чтобы что-то тут менять, договорившись, — нужно что? Всю элиту поменять? Или вся сегодняшняя элита будет заново переписывать Конституцию? Что будет-то?
Посреди всего этого идут странные разговоры про отличие «вновь принятых субъектов» от других. Но всё, что написано конституционным пером, не вырубишь топором. Может быть, топором-то и можно, но ведь никто не хочет никакого топора. А поскольку вся эта элита очень живучая и уходить не хочет, о чем она будет договариваться? Она будет договариваться о какой-нибудь «заморозке». Ну и что?! В течение этой заморозки военно-промышленный комплекс Запада будет поставлять колоссальное количество техники одним способом, наш военно-промышленный комплекс — другим способом. А потом-то будет разморозка.
И дальше что?
Я хотел бы обратить внимание на то, что долгие годы шел и идет конфликт между Индией и Пакистаном — Джамму и Кашмир и так далее. И никто на него никогда особо не обращал внимания, хотя вся архитектура конфликта та же. Был единый британский Индостан, распался странным способом, и тут же начались выяснения отношений — где проходят границы и что делать с населением? Это же естественно, это всегда так.
Там никто не обращал внимания, а в нашем случае — весь западный мир просто бьется в истериках по поводу конфликта, по своей природе, повторяю, совершенно такого же.
Ну так даже там: он замораживался, размораживался, замораживался, размораживался… И будет это всегда делать та сторона, которая сочтет, что это ей выгоднее.
Договориться о том, что она уступает нам в вопросах территорий, украинская сторона не может. Договориться теперь — это не «серая» ситуация Донбасса, когда вроде мы поддерживаем, но поддерживаем то ли так, то ли сяк — уже невозможно. Украинские политические деятели один за другим объявляют, мол, они будут летом давать интервью из Ялты и так далее (хотя, конечно, они рассчитывают, что до лета все всё забудут и возникнет что-нибудь новое).
Но я не вижу никакого формата, в котором может произойти договоренность. Хороша она или плоха, останется при этом рядом с нами какой-то безумно нам враждебный субъект, который все будут подпитывать, или нет, — вопрос другой. Мне лично очень трудно себе вообразить что-нибудь подобное. Возможно, я чего-то не понимаю. Maybe.
Но все хотят этого. Почему? Потому что все хотят, ничего не меняя, продолжать каким-то способом функционировать. Главная задача — ничего не менять.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, Вы такую вещь сказали — главная задача для системы сегодня состоит в том, чтобы ничего не менять, и система хочет самосохраниться, но, с другой стороны, государству, для того чтобы выжить, не меняться нельзя, и здесь мы видим серьезное противоречие.
Сергей Кургинян: А что значит это «нельзя»? Я хочу по этому поводу просто что-то прокомментировать, во-первых, позитивно.
Анна Шафран: Так…
Сергей Кургинян: Позитивно то, как ни парадоксально, что у всех существует в памяти перестройка: «мы ждем перемен», мы будем менять, радикально реформировать, и всё такое. Слово «реформа» и «бардак» в российском сознании — синонимы. Любая реформа — это ухудшение, хуже только слово «оптимизация». Но смысл здесь, повторяю, в том, что у общества есть память.
Там же как всё происходило-то? Перестройка начинает бороться с коррупцией. Мол, старые догорбачевские кадры страшно коррумпированы. Идет борьба с коррупцией, Москва присылает в республики своих «блистательных» следователей, великих правдолюбцев Гдляна и Иванова. Они начинают чинить суд и расправу. Оставлю в стороне вопрос, с кем и как расправляются. На самом деле они получали наводки на коррупционеров прямо на квартирах воров в законе старой формации. Но это отдельный вопрос. Главное — что как только старую номенклатуру начинают сильно прижимать, она уходит на дно, а на поверхность выводит «борцов с советским засильем и ущемлением национальных кадров». Какое-то время эти борцы кривляются на авансцене, потом отправляются в политическое небытие. И тогда из глубины всплывает та самая прежняя номенклатура, на глубину занырнувшая. Она или напрямую всплывает, как Алиев. Или возникает культ прежних лидеров. Например, того же Рашидова. Спросите в Узбекистане, с каким придыханием сейчас произносится имя Рашидова. То есть всё вернулось к тому, что пытались расковырять. Поэтому все понимают, что расковыривать начнешь — бардак получишь, а потом еще всё обернется ностальгией по прежнему, а ничего нового не сформируется. И это — наша нынешняя власть понимает очень хорошо. Ей это памятно по перестройке.
Это одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что, как говорил Борис Годунов в одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина, «привычка — душа держав». Ничего не меняй! Пусть будет, как есть. Я знаю достаточно высоких фигур, которые, когда их спрашивали: «А какие будут изменения?» (с тем, чтобы что-нибудь исправить) — Отвечали: «Никаких! Вот никаких изменений не будет!»
Третья причина в том, что непонятно, куда менять. В каком направлении? Если раньше про это говорилось «задрав штаны, бежать за комсомолом», то есть что в направлении комсомола будет меняться жизнь, то потом, «задрав штаны», побежали за Америкой. И технология изменений заключалась в том, чтобы всякий нормативный акт переводить с английского языка на русский. Под это всё было построено.
Но очевидно, что для выработки направления изменений нужно иметь стратегическую элиту, которая будет располагать в числе прочего и какими-то ценностями.
Что звучит сейчас в качестве самого позитивного отзыва на языке нашего истеблишмента? Говорят: «Он технократ». И про либеральную часть Кремля тоже: «Они не либералы, они — технократы».
Что имеется в виду? Что «эти» что им скажут — то и сделают. Дескать, они люди без принципов, без сопротивления. Если завтра им скажут бороться с Америкой, то условный, — не натуральный, а условный, в кавычках взятый — Чубайс и будет бороться. Ему-то всё равно: бороться, не бороться… Ему что скажешь, то и сделает. Распил сохранится, какие-то статусные позиции сохранятся, а что делать — не так важно. Дали задание и дали.
Но это же не так на самом деле. Никаких таких технократов нет, когда говорят сейчас «технократ», имеют в виду человека беспринципного. В пределе — циника. А как иначе? Что значит технократ? Это он средства оптимальные реализует, которые нужны для того, чтобы воплотить в жизнь свой идеал? Или у него идеала попросту нет? Ну так его действительно нет. А если есть, то специфический: за тридцать лет отобрались люди, у которых понятны не только идеалы, но и интересы. Они определенным образом вписались в реальность, как глобальную, так и нашу. Они определенным образом в ней реализуются с помощью определенных технологий, как бы технологии ни назывались — распил, откат или как-нибудь еще. И у них есть определенный фанатизм с точки зрения того, что больницы должны быть, как в Америке, школы должны быть, как в Америке и так далее. А что там в Америке — отдельный вопрос.
Значит, все эти люди будут всячески сопротивляться наметившимся изменениям. Потому что они им невыгодны, они в них как коровы на льду, они задевают их гомеостаз.
Гомеостаз для них превыше всего. Построено некое равновесие элитных кланов, все говорят: «Такая башня Кремля, сякая». А главное же balance — баланс. Значит, начнешь менять, нужно менять равновесие, а ну как оно нарушится так, что возникнет неустойчивость? Неустойчивость, бардак, перестройка — нет-нет! Не надо!
Дальше возникает невротический элемент. Наверное, вам это знакомо по неким персонажам. Я знаю много таких людей, даже среди близких мне. И мне говорит один из моих лучших друзей: «Понимаешь, дело же не в том, что я переехала из московской квартиры на Рублевку. А дело в том, что я не могу жить, если я не увижу вокруг себя все мне известные вещи, поставленные в том порядке, к которому я привыкла. Вот если эти вещи стоят в каком-то другом порядке или они на новом месте, уже возникает какое-то внутреннее беспокойство».
Это природа человеческого невроза. Среда, в которой ты находишься, еще и выполняет роль своеобразного наркотика, который избавляет тебя от некоей боли, не важно какой: земного существования, страхов ковида, смерти — не важно. Важно, что ты сидишь, у тебя всё так, как было, и тебе кажется, что ты никуда не меняешься. Время влечет куда? Оно же не «Время вперед», а время, влекущее в могилу. Обратный отсчет.
Тем самым желательно, чтобы оно как будто остановилось. Это хронотоп существующей элиты. Это ее интересы, это ее представления о гомеостазе и его роли. Это представление о равновесии как таковом. Это неопределенность целей, ибо стратегические цели возможны только у людей, у которых есть идеалы. Без этого их не может быть. А отбор шел, как я говорил, в пользу так называемых технократов. У них если и были какие-то идеалы когда-то, от которых потом отреклись, то они были сугубо прозападные.
Значит, получается, что всё, что мы имеем, и всё, что сформировано, оно невротически, по интересам, по своей функциональной специфике и по всему будет всячески сопротивляться любым изменениям, выдвигая самые разные аргументы. От содержательных — а ну как нарвемся на перестройку? До невротических — не хотим, чтобы что-то менялось. Может, человек и плохой, но вот сидит там за столом рядом со мной привычно на третьем стуле… Гомеостаз есть, среда прежняя, привычная, и всё путем, и вроде бы и время не течет. Оно остановилось.
Значит, всё это, сформированное на протяжении трех десятилетий и порожденное испугом перед изменениями, которых когда-то хотели, но которых теперь совсем не хотят, ибо поняли, что любое изменение к худшему, усвоили это на опыте, говорит о том, что ничего не будет меняться.
Теперь, в условиях этого отсутствия изменений элита должна выжить.
Элите говорят: «Чтобы выжить, ты должна что-то менять». А элита в ответ: «Да кто это сказал? Какой-то политолог, типа мудрец? Кто он? Типа премьер-министр и или кто еще? А сколько у него миллиардов? Что значит „надо“? Откуда вытекает это „надо“? Что вы хотите нам нечто вменить? Мы меняться не хотим и не будем!»
Элите на это: «Ну хорошо, не будете. Теперь смотрите, что происходит: ваш военно-промышленный комплекс в том виде, в каком он есть, не приспособлен для крупной конвенциональной войны. Это новый тип войны, понимаете?»
Мне иногда просто плакать хочется от того, что не могут это понять, в том числе и общество. Общество не понимает, что такое миллион снарядов в месяц. В месяц!
А это определенный ресурс. Никто не готовил ВПК к этому.
Сейчас самый любимый мальчик для битья — это армия. Да, армия по-своему консервативна, и может быть, она избыточно консервативна, но не она делает снаряды — военно-промышленный комплекс предоставляет ей ресурс. Он его поставляет. А он не был сделан под эту войну, под этот контингент.
Будет или не будет новая мобилизация — вопрос спорный. Но проблема заключается в том, что для того чтобы мобилизованных одеть, обуть, укомплектовать, обучить и всё прочее, должна работать соответствующая мобилизационная система. А ее нет. Никто ее не делал. В страшном сне никому не снилось, что будет такой масштабный конфликт.
Все люди, каждый рядовой обыватель нашей страны — в хорошем смысле обыватель, то есть человек, который просто живет своими текущими целями, ценностями и не очень сильно собирается вникать в положение, и который встревожен происходящим, — все не понимают, что произошло. Объем прилетевшего «медного таза», его глубину, его характер, как это всё вдруг накрылось.
У тех тоже накрылось, но на той стороне работает всё-таки весь Запад. Он что-то производит.
А на нашей стороне? Кто нам всё сделает? Значит, мы сами должны. Все эти заводы надо восстанавливать, которых не было? А конструкторские бюро при заводах тоже надо восстанавливать? Всё надо восстанавливать?
Да, надо! Надо! И надо лихорадочно.
Но ведь не хочется? Не хочется. Поэтому всё происходит в условиях этого невротического, политического, метафизического цепляния за инерцию. За то, что есть.
Теперь говорится: «Ну хорошо, но вы вырабатываете ресурс. Вы сколько-то производите и сколько-то тратите, давайте баланс, траты производств по всем видам техники, по всему прочему. Обсудим.
Мы не будем нарушать всякие запреты на обсуждение конкретных цифр. Мы просто будем обсуждать, что сколько-то в эту трубу втекает и сколько-то вытекает. Давайте эту задачу для бассейна решим».
И получится, что вы не можете очень долго жить на советском наследии, вырабатывать существующий ресурс. Надо его наращивать!
Один грузин сидит в ресторане и пристально смотрит на официантку. Официантка замечает, что слишком пристально на нее смотрят, и спрашивает: «Вам меню?» Он говорит: «Тебю». Так вот, смысл заключается в том, что тем, кто смотрит на эту элиту плотоядно оттуда, нужно не «меню», им нужно «тебю».
Анна Шафран: Сергей Ервандович, итак, им кусков не надо, им нужно всё сразу.
Сергей Кургинян: Им нужно по максимуму, никаких компромиссов, нужно, чтобы непослушание было наказано так, чтобы никому неповадно было и чтобы все поняли, насколько велик американский хозяин мира. Им нужно наказать рабов. У них есть определенная совершенно такая древнеримская установка по этому поводу.
Восстание должно быть подавлено, и все должны увидеть Аппиеву дорогу, на которой расставлены распятые. Может быть, я утрирую и эпоха чуть-чуть мягче, но им нужно по максимуму.

Анна Шафран: Вы сейчас предложили очень яркий образ, который всё расставляет по своим местам.
Сергей Кургинян: Им вот это надо. Это стоит минимум четыре триллиона долларов. Это большие деньги, ради них стоит потрудиться. Это им выгодно. Никаких проблем нет, что Европа загнется. Да плевать на нее десять раз! Самая остроумная идея американцев — это выйти из НАТО. Это будет красивый финт — просто дальше некуда. Плевали они на эти все вещи. Население будет жить хуже? И слава богу! Рабам давным-давно надо рацион уменьшить, чтобы были более живые, подвижные и производили какую-то прибыль настоящую, а то все заводы замучаешься переводить в Юго-Восточную Азию, где работают за гроши. Пусть здесь работают.
Поэтому я не вижу никаких серьезных оснований для того, чтобы идти на уступки. Кроме одного: никто пока что из тех, кто действует на уровнях, способных сформировать решение, то есть прямо во власти или за спиной — stay behind это называется, — на этих уровнях я не вижу людей, которые хотят стратегической ядерной войны.
Они есть глубже. Это люди, которые говорят, что эон заканчивается, грядет равноденственная буря и после нее нужно перейти от Кали-юги к Сатья-юге. Такие есть, но они не при делах сегодня, им еще надо вылезти на эти позиции. Это не элита, а контрэлита.
А те, кого я вижу, они в принципе стратегической ядерной войны не хотят. «Вот обидятся русские, не обидятся, а ну как они долбанут?» Это что-то сдерживает, поэтому позиция ряда высокостатусных деятелей нашей информационной войны заключается в том, чтобы всё время об этом говорить, но не для того чтобы это произошло, а по принципу анекдота: «Вовочка, напугай бабушку. — Ууу! Нехорошая женщина». Это пугание бабушки может плохо кончиться. Запросто! Запросто нервы где-нибудь лопнут, запросто любой сбой произойдет в системе. Система неустойчива, но пока мы говорим не об этом.
Что касается всего остального, то они считают, что у них всё в шоколаде: вырабатывается ресурс, и ладно, еще выработают — да пожалуйста. Что они рассматривают в качестве варианта? Тактическое ядерное оружие малогабаритное, о котором больше всего говорят. Это несерьезно, это нанесение ущерба, который можно нанести и иначе. Базара на сто долларов, а эффекта на десять центов. Не говорю, что вообще нет, но эффекта резко меньше. Но зато какая вкусная штука! Если русские это сделают, то можно их разводить с Китаем и, безусловно, с Индией. Если еще кто-то перепугается — начнется более глубокая изоляция и еще быстрее будет вырабатываться ресурс. Это называется «стратегия анаконды».
Вот в этом смысле Запад нашу элиту взял за горло и делает ставку на то, что ничего российские власти менять не будут. Запад считает элиту России будущими распятыми по Аппиевой дороге, потому что они ничего не будут менять.
Теперь возникает вопрос об инстинкте опасности, который у ряда людей очень хорошо работает. Я не верю, например, что у главы нашего государства все инстинкты, связанные с подобного рода вещами, почему-либо атрофировались. Годами я не вижу этого, ни по глазам, ни по чему еще — всё есть. Когда этот инстинкт перевесит, скажем так, прагматику и невроз в сумме — изменения внутренней политики всё-таки будут или нет?
Потому что только в ситуации, когда будет сказано: не вывернешься, договорняка никакого не будет, ресурсы вырабатываются всё сильнее и сильнее, нас ведут на убой, а умирать не хочется. Ну так в этой ситуации можно или нельзя провести изменения?! Вот вопрос.
И в какую сторону? Под какие целевые, стратегически идеальные задачи? И чьими руками? Кто субъект этих изменений? Как их осуществлять?
Это сейчас важнейший вопрос, который можно обсудить в качестве второго, констатируя первый. Будет сделано всё, чтобы изменений не было.
Анна Шафран: Но здесь даже еще и метафизически понятно, как мне кажется, что всё это будет продолжаться до тех пор, пока мы сами качественно не начнем меняться. Нам и дана эта ситуация для того, чтобы мы поменялись метафизически.
Сергей Кургинян: Я думаю, что Вы правы. И я лично так тоже считаю. Почему я с самого начала и сейчас поддерживаю произошедшее? Потому что государство мирно гнило. Оно гнило и гнило. И мы в каком-нибудь 2030–2032 году опомнились бы, обнаружив, что у нас вообще ничего нет, и желания уже нет, и мотивации. И вот этот сон и было самое губительное…
Вечный сон. Закон природы.
Видя это всё вокруг,
Своего экскурсовода
Тёркин спрашивает вдруг:
— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, се ли — должен кто-то
Делать что-то?
— То-то — нет.
В том-то вся и закавыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас руководят.
— Как же так — без производства,
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
— Нет, не только. И учет.
В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это всё мешало –
Уголь, сталь, зерно, стада…
— Ах, вот так! Тогда, пожалуй,
Ничего. А то беда.
Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.
Это было написано Александром Трифоновичем Твардовским в 1960-е годы. А я, живя в отдаленном уголке Костромской области, вижу, как поля заросли деревьями уже толще моей руки. Напрочь заросли за двадцать пять лет. Это леса, и уже даже переведенные из ведомства тех, кто пахотными землями распоряжается, в лесной реестр. Всё произошло! «Нам бы это всё мешало», — как у Твардовского. Стада, пахота, зерно…
Мы производим определенное количество сельскохозяйственной продукции. Не спорю, достаточно много. Ее, может быть, даже больше сейчас будет, чем надо, потому что вывозить неизвестно как и куда, и еще потому, что слабое животноводство.
А слабое животноводство потому, что вместо коровников, которые были, которые строили всю эту совсем не симпатичную, как кому-то кажется, позднесоветскую эпоху — их строили, строили эти коровники упорно и упорно, — а теперь вместо них развалины и руины повсюду.
Это называется сон. Население Москвы и Московской области увеличивается. А население Мехико тоже увеличивается — это законы третьего мира — стягивание пылесосами всего в одну систему. И мы могли проснуться в эти 2030-е годы, оглянуться, а у нас ничего нет, всё «оптимизировано».
Поэтому, когда сейчас проснулись — пусть неловко, глупо, кое-как, в полупарализованном состоянии, как спьяну, и бьются обо все косяки реальности, поскальзываются на каждом скользком полу, падают, матерятся и всё прочее, — то это лучше, чем если бы спали. Все говорят: «Боже, и тут ударились, и тут ударились!» Безумно горько терять каждый километр территории, каждого убитого человека, видеть каждого беженца.
Оправдание этому может быть только одно — если мы победим, всего и всех станет потом больше. Нет других оправданий. Но если бы проснулись не сейчас, то неизвестно, что было бы с просыпанием.
Пушкин же писал очень остроумно по поводу нашей победы в войне 1812 года, не упоминая Кутузова.
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
Как вы говорите, это метафизическое задание — умирайте или меняйтесь. Чешите репу. Абзац пришел незаметно. Как в анекдоте:
В дверь стучат, мужик стоит.
— Кто ты?
— Я твой абзац!
— А почему ты такой толстый?
— Я не толстый. Я полный.
Так вот, это всё пришло по русскую душу. Но потенциал есть, поэтому я с вами совершенно согласен, что это метафизическое задание — просыпайтесь, потом поздно будет.

Анна Шафран: Но если мы вернемся к вопросу о тех элитах, главная задача которых выжить и ничего не менять, то напрашивается следующая проблема — можно ли решить этот вопрос, который перед ними встал, через мимикрию? Или всё-таки здесь недостаточно мимикрировать?
Сергей Кургинян: Нельзя. Я помню, подробно уже говорил об этом. Если балерину классического балета призвать спасать Родину, то, конечно, она может еще стать снайпером, но это маловероятно. А скорее всего, она будет быстрее делать фуэте. Мимикрия — это и есть ускорение действий а-ля фуэте. Еще больше бюрократических систем, еще больше протоколов регуляции. Такой протокол не помог — сделаем другой! Я говорил, что это как с тем раввином, который советовал сыпать корм курам то кругом, то квадратом, то треугольником. Потом, когда у хозяина кур все они сдохли, он сказал: «Жаль, у меня было еще столько геометрических композиций».
Это изменение геометрических композиций. Этот человек всё равно может только это. Он может правильно осуществлять откат, определять добавочную стоимость и «дельту». Он может осуществлять это и в Европе, где ему удобнее. Он приналадится, возможно, делать это в Китае или где-нибудь еще, в Северной Корее. Но он другого делать не может: он не может созидать.
Я недавно наблюдал одного человека, руководителя очень крупного предприятия. Здесь не буду говорить, какого, чтобы случайно неприятностей у него не было от того, что его упоминаю. Он смотрел на созданный им мотор крупного изделия, обнимал его и говорил: «Сергей Ервандович, 8 лет жизни! 8 лет жизни!..» И сиял, потому что восемь лет — не зря. Вот если такая контрэлита, или реликтовая элита окажется востребована, все проблемы будут решены. Все проблемы надо начинать решать с простого вопроса — о людях.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, получается такая ситуация, при которой… не знаю, по-разному относятся люди к выражению «глубинный народ», но тем не менее люди на местах, они очень хорошо осознают ситуацию, вызов. Они вообще быстрее всех всё поняли и начали действовать. Более того, то, как люди реагируют на спецоперацию, то как люди сами начинают закупать, снаряжать, отправляться и так далее, говорит само за себя. Это с одной стороны, а с другой стороны, есть вот тот правящий класс, те элиты…
Сергей Кургинян: Бюрократические помехи?
Анна Шафран: Да, и весь этот аппарат, у которого совершенно иной взгляд на вещи и иные цели, задачи. Вроде бы это нормально, да? На местах всегда виднее и быстрее всё становится ясно. Ведь в какой-то момент эти две системы, структуры, образования могут в каком-то противоречии столкнуться. Это возможно?
Сергей Кургинян: Да, это возможно. У Экзюпери есть произведение «Военный летчик», по мотивам которого я поставил в своем театре спектакль «Зёрна». В нем некий майор, который командует авиационным соединением, говорит, что если во все эти бюрократические системы попадут бомбы, то позовут капрала или Жанну д’Арк и спросят их: «Ну, сколько надо ресурсов? Но если через две недели не исправишь, пойдешь на каторгу. Это называется французским чудом, капитан». Герой, который ему оппонирует, сам Экзюпери, отвечает, что зовут этих капралов не по причине попадания бомб в те или иные здания, а или власть имущие — испуганные и живучие, — или великие процессы и их бесчисленные жертвы. Так вот, мне бы хотелось верить, что власть имущие у нас «испуганные и живучие». Но ведь они защищаются от испуга, как я уже говорил, так, что «страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть» И насколько они живучие, я тоже сейчас уже не до конца понимаю. Я вообще бы хотел, чтобы они справились с этой ситуацией без всяких изменений.
Мне плевать, как это будет происходить и насколько это будет для меня тошнотворно. Я москвич, родился на Малых Кочках, вырос в Москве, и когда был геофизиком, я с Москвой каждый год прощался, уезжая в поле, потому что поля были опасные. «Дай надышаться Москвой» это называется. Но я терпеть не могу то, что сейчас вижу, и всё же я живу в этом, и буду жить.
Мне ельцинская действительность была абсолютно омерзительна, но я ж ее защищал, когда началась чеченская война. Потому что понимал, что я хочу жить в России, даже мне несимпатичной, и я сделаю всё для того, чтобы она выстояла.
Поэтому, если они могут выстоять, ничего не меняя, — пусть выстаивают, я не хочу им мешать. Я просто вижу «математически», что это невозможно, и вижу эти невротические защиты, эти восклицания бесконечные по поводу того, что у нас грандиозная армия.
У нас армия, которую поставили в низшую социальную позицию. Надо говорить сейчас не о том, как она грандиозна, а обсуждать, как менять эту позицию стратегически.
У нас армия не может существовать без военно-промышленного комплекса, а военно-промышленный комплекс не может существовать без станкостроения. Нам надо найти сейчас где-то у каких-нибудь доброхотов сумасшедшие деньги, заплатить и ввезти всё станкостроение заново в уже готовые корпуса, как, между прочим, это делали «клятые большевики» в 1930-е годы. Форд это ввозил, Генри Форд.
Это всё невозможно не сделать, это придется делать для выживания, и это изменит страну в лучшую сторону. Но только если они испуганы, а испуганность — это хорошо. Испуг, когда он тебя не парализует, то он тебя активизирует на необходимые действия, страх — великая сила. В не худшем фильме Сильвестра Сталлоне «Рокки» главный герой говорит: «Страх плох, когда он тебя сжигает, а когда он сжигает твоего врага — это очень хорошо». Вот это раз. И живучесть внутренняя, инстинкт выживания. Если эти качества имеются, то изменения начнутся, когда произойдет удар об стенку лбом или об пол — бу-бум!
Не когда будут «мудрецы» читать назидания: «Уважаемый такой-то! Вы движетесь по направлению к стенке со скоростью столько-то километров в час, время, расстояние такое, поэтому вы ударитесь тогда-то». — «Да пошел ты!.. Не бьемся же». — Бу-бум! — «Е-мое!» Вот когда этот момент наступит, будет ли этот удар спасительно-отрезвляющим или шоково-разрушительным? Вот от чего всё зависит.
Пусть все, кто меня слышит, в том числе всякие генералы информационных войн, поймут, что их нравственная, экзистенциальная, метафизическая и прагматическая задача в том, чтобы в тот момент, когда о стенку стукнутся, эффект был положительный, а не отрицательный. А для этого и существует прогноз, обсуждение, интеллект и всё прочее. И не песнями надо кормить о том, что все солдаты — чудо-богатыри. У нас есть замечательные ребята, но если бы все, то тогда было бы по-другому. Так не бывает. В полуспившемся обществе потребления так не бывает, в обществе, которое тридцать лет этим путем волокли, да и перед этим не лучшим способом использовали.
Все генералы у нас — Суворовы, да? Так тоже не бывает. А все менеджеры — Рузвельты? Не об этом надо петь песни, потому что это успокаивает, а тогда удар будет болезненнее. Надо вовремя бить тревогу, не превращая ее в панику, придавая созидательный характер, и тогда, возможно, этот удар — упаси бог, если он состоится, и лучше, если будет без него, но я не вижу, как может быть без него — может оказаться отрезвляюще-спасительным и побудить к некоторым изменениям. Которые опять-таки могут быть сокрушительно деструктивными, а могут быть восхитительными. И естественно, что зло направляет нас в сторону губительности, а добро направляет на сторону спасительности.
Нужно выбрать этот путь, двигаться спасительным путем, проартикулировать его и начать реализовывать, уже сейчас готовя это.
Ибо в каждом таком деле есть одна проблема… Вот все мне говорят: «Вы всё рассуждаете, а вот Ленин говорил, что надо делать».
Милые! Вы прочитайте работу! У Ленина в работе «Что делать?» нет ни слова о том, что делать. Действовать он начал в 1918 году. У него вопрос, как сделать субъект, который будет осуществлять действия, он же — партия нового типа. А что делать — ни слова нет про это! Или, по крайней мере, это существует как глубоко периферийная тема. А когда возникает, то это уже «Апрельские тезисы», и совсем другие годы, полтора десятилетия прошло.
В этом смысле сейчас мы можем и должны обсуждать одно: через какие структуры, из каких слоев «глубинного народа», по каким каналам вертикальной мобильности, в какой архитектуре, в какой функциональной и стратегической схеме может произойти ротация кадров?
Что такое эта контрэлита, которая может быть востребована, как сделать, чтобы она была устойчива, и каким образом эта контрэлита сможет действовать, оказавшись за один шаг от катастрофы (раньше она ничего не сможет сделать). Вот эти вопросы надо обсуждать сейчас, а не говорить то, что всем нравится. Потому что, когда долго говоришь то, что нравится, и люди в это верят, то потом эти же люди говорят: «А фиг ли ты это всё обещал, и так больно вдруг оказалось в конце?»
















