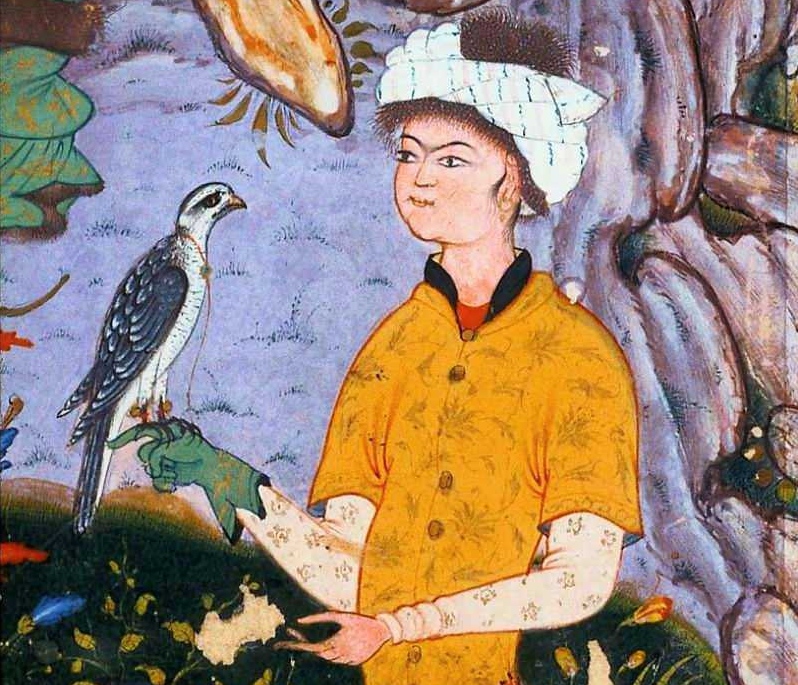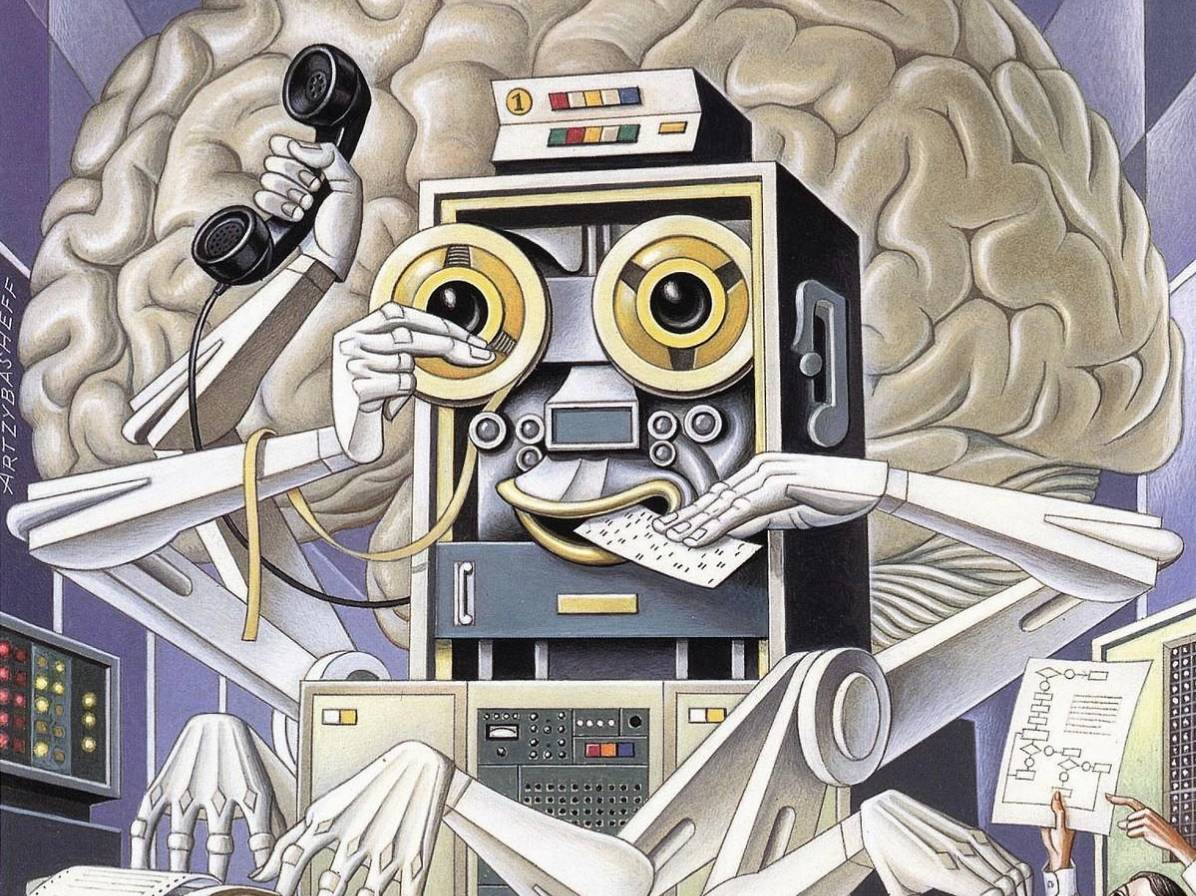1917 год и «Некто» из «Новой Третьяковки»

В моих статьях, опубликованных в газете «Суть времени», уже не раз говорилось о печальных и опасных изменениях, происходящих в последние годы в музейно-выставочной жизни нашей страны. О том, что эта важнейшая сфера обеспечения культурной памяти всё более явно выражает и утверждает вкусы и интересы сил, враждебных исторической истине и важнейшим энергиям развития отечественного искусства.
К сожалению, окормляемые и направляемые как чиновниками, так и в еще большей степени богатыми спонсорами и «друзьями» (по большей части живущими и держащими капиталы на Западе), музеи, так или иначе оказываются инструментами манипулирования и обработки сознания населения страны в русле антисоветских, а часто и антирусских (антироссийских) идей и целей.
Очень «ярко», наглядно и, я бы сказал, многообразно это проявилось, конечно, и в нынешнем году столетия Февральской и Октябрьской революций.
Все мы являемся свидетелями того, как разнузданно, не гнушаясь самой отъявленной ложью, и в СМИ, и в кино, и с экранов телевизоров заинтересованные силы стремятся представить Великий Октябрь не как спасительный прорыв в будущее, обеспечивший сохранение целостности и стремительное развитие страны, а как некую смуту, катастрофу, «страшный противоречивый слом». Как стремятся обмельчить, размыть, расфокусировать внимание о той великой и судьбоносной эпохе всякими скандалами с «матильдами» и повторением самых дешевых антисоветских мифов — от тех, которые «придумал Черчилль в восемнадцатом году», до вновь изобретаемых.
Увы, причастными к этому мутному потоку оказались и крупнейшие художественные музеи России. Адекватным значительности «красного смысла» революции, ее гуманистической сущности (при всей сложности и времени, и создававшегося тогда искусства) оказался, пожалуй, только Государственный Русский музей, приурочивший к столетию Октября выставки: «Мечты о мировом расцвете», «Плакат эпохи революции», «Дети страны Советов», предсказуемо практически обойденные прессой.
Другие же центральные музеи так или иначе постарались омрачить память о той великой эпохе.
Так, Государственный Эрмитаж, отмечая столетие революций, экспонирует проникнутую мрачным пессимизмом выставку немецкого художника-каббалиста Ансельма Кифера (на которой доминирует ощущение «беспощадности рока»). И фотографии 1920–1930-х годов, сделанные братьями Хенкиными, на которых акцентировано сходство марширующих на первомайском празднике советских спортсменов и идущих строем немецких национал-социалистов. Кроме того, Эрмитажем задумана деконструкция «мифа революции», как она была показана в знаменитом фильме С. Эйзенштейна «Октябрь». И будет проведена уж совсем сомнительная акция: 25 октября «в торжественной обстановке в честь 100-летия Октябрьской революции» заведут старинные часы, которые были остановлены во время штурма Зимнего дворца.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина отмечает 100-летие поразившей многих москвичей свалкой детских колясок у входа — частью занимающей несколько музейных залов выставки Цай Гоцяна — китайского художника (живущего на Манхеттене в Нью-Йорке). У которого доминантой отношения к Октябрю, (по выражению автора газеты «Ведомости») является «печаль и раздумья о тщетности надежд на обретение свободы».
И, конечно же, очередной, весьма «хитрый план» в фирменном привычном антисоветском духе реализован «Новой Третьяковкой», устроившей масштабную выставку «Некто 1917» (о подготовке которой говорилось и в нашей предыдущей статье).
О том, что от этой выставки ждать адекватности духу и главному «нерву» революционной эпохи и глубины интерпретаций искусства того времени не приходится. В общем, это было ясно уже заранее, хотя бы из того, что несколько ранее в галерее начала экспонироваться выставка с таким же «хитрым» названием — «Кем вы были до 17 года?» (вопрос из анкеты сталинского времени), на которой показаны дореволюционные работы скульптора Н. Андреева, автора знаменитой «Ленинианы». Причем «фишка» заключается в том, что среди прочих экспонатов здесь присутствуют и выраженно модернистские и эротические скульптуры (одна из журналисток окрестила выставку «неленинский Андреев»).
Но то, что открылось посетителям выставки «Некто 1917», позиционируемой прессой как «главной выставки года», повергло в недоумение даже тех ценителей искусства, которые вполне симпатизируют нынешней деятельности руководителей «Новой Третьяковки».
Это первое общее недоумение отразилось даже в заголовках некоторых статей в СМИ, например: «На выставке «Некто 1917» есть шедевры, но нет ни Ленина, ни красных флагов» («Ведомости») и «Некто 1917» в Третьяковке. Выставка не про революцию» («портал Москва 24»).
Конечно, заниматься подлогами и деструкцией истории России и ее искусства нынешнему руководству «Новой Третьяковки» не привыкать. Мы помним и надругательство над Валентином Серовым, сопровождавшееся тенденциозностью отбора его картин и «цензурированием» его творчества (выразившимся отсутствием на выставке В. Серова его произведений о революции 1905 года), и экспонирование в залах советского искусства выставки глумливого скульптора Сокова, и увиденную глазами внешних и внутренних эмигрантов «Оттепель».
Но в «Некто 1917» деструктивные способности и, я бы сказал, развязность и наглость в обращении с историей искусства проявились в еще большем масштабе.

На первый взгляд замысел этой выставки может показаться не просто возможным, но и закономерным. Заявляемый устроителями выставки объективный показ «среза» состояния отечественного искусства в период двух революций посредством демонстрации лучших и характернейших работ, созданных в 1917 году мастерами различных поколений и направлений на фоне событий Февраля и Октября (и в связи с ними), мог бы быть очень полезным и интересным.
Хотя осмысление сложного расклада художественных сил и их «творческого поведения» во время и после революций и имеет ценные традиции и достижения (от Луначарского и искусствоведов 1920-х годов, в частности Я. Тугендхольда и Н. Пунина и др., до относительно недавнего труда А. Лапшина «Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году». М., 1983), дальнейшее углубление и раскрытие этой темы было бы очень своевременно и полезно.
Но в реальности выставка «Некто 1917» и ее каталог производят совсем иное впечатление и совершенно явно направлены не на плодотворный синтез, а на дезинтеграцию представлений о соотношении искусства и революции и на создание эффекта чуждости революционных событий, особенно Октября (как некоей смуты), русским художникам. К тому же устроители выставки уже во вступлении к каталогу акцентируют внимание на том, что художники «ничего не знали о будущем страны ...не слышали ее нового имени: Советский Союз», но и сами в редких его упоминаниях относятся к нему весьма холодно, как к чему-то чуждому «свободе».
И хотя устроитель выставки З. Трегулова в своих многочисленных интервью вновь и вновь повторяет о своем стремлении к «внепартийности», политическая антисоветская ангажированность и тенденциозность слишком явно проступает и в отборе работ, и в режиссуре экспозиции, и в текстах каталога, и в пиаре выставки.
Нагляднее всего «воинствующий антибольшевизм» проявляется и в том, что при большом объеме выставки (почти 150 работ, из 34 музейных и частных собраний, распределенных по отделам «Мифы о народе», «Город и горожане», «Эпоха в лицах», «Прочь от этой реальности!», «Смутное», «Утопия нового мира», «Шагал и еврейский вопрос») и размещении многих документальных фотографий, на ней не находится места не только для отдела, посвященного собственно революции и отношению художников к самодержавию, буржуазному строю и Советам, но и для изображения большевистских лидеров.
Даже Ленин (хотя существуют его графические и живописные изображения и 1917-го, и 1918 года) присутствует здесь только на одной небольшой фотографии дальним планом, а уж упоминается в текстах он в два раза реже, чем Керенский, причем исключительно в отрицательном плане.

М. Горький же хотя присутствует (в портрете работы В. М. Ходасевич), но характеризуется исключительно как автор «Несовременных мыслей». Вообще, как в данном случае справедливо говорит в газете Art newspaper российский критик М. Боде, такую выставку «могло бы устроить и какое-нибудь Министерство просвещения... Временного правительства (если бы оно, конечно, осталось у власти)».
И в самом деле, при полном отсутствии изображений В. Ленина в «идеологическом центре выставки» (как определяют рецензенты отдел «Эпоха в лицах») мы видим целых два портрета А. Керенского (И. Репина и И. Бродского). Причем авторы комментариев и аннотаций игнорируют ощущаемую в этих работах отрицательную оценку художниками своей модели. Присутствуют среди «лиц эпохи» и Феликс Юсупов (вопреки заявленному принципу его портрет исполнен не в 1917, а в 1918 году польским художником Я. Рудницким), и явно белые офицеры («Полк на позиции» В. Шухаева), и Архиепископ Антоний (активнейший противник советской власти).
От лица же главной революционной силы Октября здесь, так сказать, представительствует отвратительный персонаж картины И. Репина «Большевики» (1918, хранится во «Дворце конгрессов», Санкт-Петербург) — жирный «дезертир», отнимающий хлеб у голодных детей Петрограда. При этом авторы комментариев «поддают парку», добавляя, что «хитрые и жадные» большевики «развязали войну против собственного народа», и с удовольствием цитируют слова из письма Репина о «явном мерзавце и глупце Ленине».
Кстати, за показ этой работы на выставке, да еще с подобными комментариями, я бы вообще дисквалифицировал авторов — устроителей выставки, поскольку, во-первых, эта картина-карикатура, написанная не в 1917, а в 1918 году, является явным провалом Репина, безвылазно сидевшего в это время в своей финской усадьбе «Куоккала». И представлявшего происходящее в России по сплетням злобно-антисоветски настроенного окружения.
Во-вторых, если уж устроители не ограничивают себя в датировке экспонированных картин, то почему бы им не показать не только картину Репина «Быдло империализма» (1917), но и работы, подаренные им Музею революции СССР: «9 января», «Красные похороны», «Царская виселица».
То более, то менее явной отчужденностью от центральных энергий революционной эпохи, стремлением не столько прояснить, сколько «замутить» ее образ и смысл, так или иначе пронизаны и другие отделы и содержательные, интерпретационные акценты выставки.

Мы уже говорили в предыдущей статье о зловещей неопределенности, на которую настраивает само название выставки, вырванное из контекста творчества Хлебникова, у которого уже в 1912 году предчувствуемый и призываемый им «некто 1917» должен был ознаменовать неизбежное падение «старого мира» и начало нового этапа восхождения человечества — «солнцелова». В подаче же «Новой Третьяковки» это выражение заставляет вспоминать скорее мрачного персонажа пьесы Л. Андреева «Жизнь человека» («Некто в сером, именуемый он»).
При этом, как и на выставках В. Серова и «Оттепель», посещение выставки пре дуведомляется «прикольным» тизер-роликом, как бы предлагающим посетителям выставки настроиться на некий абсурдистско-иронический лад. В данном случае — это сценка с пасущей корову бабой (надо понимать, «Россией»), недоуменно смотрящей на проносящихся по полю вооруженных всадников, причем бок у коровы каким-то образом уже расписан супрематическими квадратиками.
Под стать тизер-ролику и организация восприятия зрителем самой выставки, уже с аванзала уводящей сознание куда-то далеко, в сторону от революции, причем так, что у малоподготовленного зрителя запросто может возникнуть «когнитивный диссонанс».
Особенно впечатляет помещение здесь композиции В. Кандинского «Смутное», по замыслу устроителей, видимо, олицетворяющей представления о революции как о «смуте».
Эта же картина открывает один из главных разделов выставки, посвященный искусству авангарда. При этом, вопреки очевидности связей и аналогий между стремлениями представителей новейших течений (что исследовано и в нашей, и западной литературе) и энергией революции, авторы выставки стараются «разлучить» их, оторвать художников «от века», порой характеризуя их как каких-то профессиональных идиотов (выпадающих из общественно-политического контекста).
Не случайно, конечно, на выставке вообще не нашлось места ни творчеству, ни образу В. Маяковского (помните — «моя революция!»). А в кратком упоминании о нем в каталоге (наряду с Д. Бурлюком и В. Каменским) совершенно безосновательно намекается на его связь с анархистами и рассказывается, что посещавшееся ими «Кафе поэтов», находившееся рядом со штабом анархистов, было закрыто ВЧК в апреле 1918 года.

Наряду со «Смутным» Кандинского, настраивая (или скорее расстраивая) зрителя на определенный лад, в аванзале выставки висит как бы парная ей, но совсем иная по всем параметрам картина М. Нестерова «На Руси. Душа народа» (1914–1916), открывающая другой большой раздел выставки — «Мифы о народе». Эта картина, написанная не в 1917 году и продолжающая линию творчества художника, начатую еще в 1880-е годы, судя по всему, понадобилась создателям выставки отнюдь не для сочувственного и углубленного осмысления духовных основ Русской жизни, а скорее для развенчания «русской идеи».
Во всяком случае, сразу после нее устроители размещают целый ряд работ Бориса Григорьева (по количеству картин явно «героя» выставки), по лицам персонажей которых, по выражению одной из рецензенток, сразу «видно, что русский народ не богоносец».
Этот действительно сильный, но мятущийся и внутренне изломанный мастер, особенно остро чувствовал и абсолютизировал в своем искусстве, прежде всего темные стороны жизни быта и нравов деревни и мещанства, «звериное» в человеке. Но если, скажем, А. Блок говорил о «разрушительном» смысле и воздействии его (Б. Григорьева) цикла «Расея», а в советское время работы эмигрировавшего художника называли «злобными карикатурами», то на выставке «Некто 1917» он преподносится как едва ли не наиболее адекватный живописатель своего времени. Причем устроители опять-таки вопреки своим заявленным принципам включили в экспозицию одну из его самых жестких и злобных картин — «Лики России» (1921, хранится во «Дворце конгрессов», Санкт-Петербург), вероятно потому, что устроители выставки трактуют ее как «подтекст» революции» (!? — ВП).
А рядом с «Мифами о народе» на выставке расположен другой большой раздел, в котором представлены произведения художников-авангардистов, также посвященные (если судить по наименованию этой части) чему-то нереальному, неосуществимому — «Утопия нового мира». При этом вопреки многочисленным фактам связей и аналогий между стремлениями художников и революционным движением, устроители выставки стараются нейтрализовать их антибуржуазный пафос. Интересно, что бы об этом сказал В. Хлебников, который вместе с друзьями-художниками уже с весны 1917 года (как и в дальнейшем) безусловно сочувствовал большевикам и еще до Октябрьской революции послал в Зимний дворец письмо с «постановлением»: «Считать Временное правительство временно не существующим, а главнонасекомствующего Александра Феодоровича Керенского находящимся под строгим арестом».
Весьма специфичен и отбор произведений для раздела «Город и горожане», в котором зрителю предлагаются изображения темных пустынных улиц, скудной пищи, богемных кафе, нескольких проституток, инвалида, беженки, но нет важнейших типов и реалий быта того времени — рабочих, солдат и матросов, праздничных и траурных шествий и митингов. И хотя в каталоге упоминается, что на выставках, проходивших в 1917 году, острее всего воспринимались «злободневные жанры», а в наследии экспонируемых на выставке мастеров такие работы имеются, авторы экспозиции и здесь навязывают зрителям нужные им впечатления.
Так, при наличии в творчестве О. Остроумовой-Лебедевой работ «Демонстрация 18 апреля 1917», «Похороны жертв революции» и т. п., в которых художнице хотелось, по ее словам, «слиться с людским потоком, пережить те же чувства радости и надежды на светлое будущее, как и весь народ», она представлена на выставке картиной «Интерьер с собакой», к тому же помещенным в раздел «Прочь от реальности!» Этот большой раздел, кстати, относится к числу наиболее озадачивающих на выставке, поскольку в нем наряду с работами нескольких художников, действительно отчужденно взиравших на революционные события (С. Жуковского, К. Горбатова и пр.), значительную часть занимают произведения А. Бенуа, П. Кузнецова, мастеров «Бубнового валета» — П. Кончаловского, И. Машкова и других мастеров, которых уж никак нельзя назвать «эскапистами».
Без соответствующих пояснений у посетителей выставки (в том числе прессы) возникает впечатление, что художники «совсем не вслушивались в революцию», «предпочитали не замечать потрясений», «жили в каком-то ином измерении, где не было места революциям и Первой мировой войне» и, по выражению министра культуры В. Мединского, «даже не подозревали, что страна находится на абсолютном разломе своей судьбы».
Между тем, А. Бенуа, еще с 1905 года убежденный в неизбежности крушения самодержавного строя, в 1917 году не только самым активным образом участвовал в обновлении художественной жизни и организации охраны памятников культуры, но и (по выражению подружившегося с ним тогда А. Луначарского) приветствовал «Октябрьский переворот еще до Октября. ...С величайшим интересом следил за первыми шагами нового режима» и «был одним из первых крупных интеллигентов, сразу пошедших к нам на службу».
Стоило бы напомнить создателям выставки и тем зрителям, кто повелся на их «интерпретации», и о том, о чем якобы «ушедший от революции в эстетику» Павел Кузнецов, автор нежных и звучных, пронизанных жаждой сплошного света, картин и натюрмортов, писал в своих воспоминаниях «Искусство в 1917 году»: «Февральская революция застала меня в армии. Среди бесконечных разговоров о войне, мире и земле, волновавших солдатскую массу, среди ошеломляющих новостей о падении самодержавия до нас дошли слухи о том, что в Москве образовались две художественно-просветительные комиссии: одна при Совете солдатских депутатов, другая при Совете рабочих депутатов. ...В душе росло желание принять активное участие в их работе. Неожиданно для меня желание вскоре осуществилось: Совет солдатских депутатов вызвал меня из армии и назначил заведовать художественной секцией своей Комиссии.
Вскоре Совет солдатских депутатов отозвал и других художников, еще служивших в армии: Якулова, Кончаловского, Машкова, Осмеркина, Кравченко, Малевича, ...и привлек их к работе в Комиссии. Деятельность членов нашей секции объединял большой энтузиазм художников, желание успешно решить стоящие задачи — внедрение искусства в солдатские массы, участвовавшие в революции и долженствующие быть приобщенными к культуре. Отдел, приступив к деятельности, призвал всех деятелей искусства, желавших помочь... уничтожить в искусстве печальное наследие старого режима и соединить для общей творческой работы две великие силы — демократию и искусство. Закипела напряженная организационная работа... Февральская революция сыграла большую роль в освобождении искусства. Она как бы возбудила чувство творчества, свободного от рутины, энтузиазм, вдохновение... Однако только Великая Октябрьская социалистическая революция вывела искусство на действительно широкую дорогу» (из замечательного сборника документов и воспоминаний «Из истории строительства советской культуры. Москва 1917–1918», изданного в 1964 году и словно не существующего для создателей «Некто 1917»).
При общем отчуждении устроителей выставки от «проклятых», социальных вопросов начала ХХ века и экспонировании картин, посвященных русским национальным традициям, под рубрикой «Мифы о народе» весьма странно выглядит раздел «Марк Шагал и еврейский вопрос».
Работ художников-евреев, непосредственно связанных с революцией, здесь нет (хотя в музеях их немало), а в центре зала висит специально выписанная из Центра Помпиду картина М. Шагала «Еврейское кладбище». В текстах же всячески акцентируется важность проблематики «создания современного национального еврейского искусства». И, как справедливо пишет в газете Art newspaper М. Боде, которому «отдел, почему-то отделенный глухой стеной», напомнил гетто: «На общем аполитичном фоне этот «вопрос» выглядит слишком уж определенным социально-политическим жестом».

Заканчивается же вся эта действительно «смутная» экспозиция «эпилогом» из пяти картин, повешенных в углу с покрашенными в глухой цвет стенами. Причем отбор этих произведений и еще более их извращенная интерпретация вопреки заявленной устроителями выставки «внепартийности» также выглядят «слишком уж определенным социально-политическим жестом», который, кстати, с удовольствием считывают рецензенты из либеральных СМИ.
Это относится, в частности, к помещению в конце выставки далеко не лучшей картины Лентулова «Мир, торжество, освобождение» (1917), на которой, по характеристике автора «деловой» газеты «Ведомости» О. Кабановой, «некто человекообразный пляшет над карикатурным имперским орлом и на его стилизованном теле нарисованы натуралистичные гениталии» и которая «на этой выставке видится не шутовской, а зловещей». Эта же картина, кстати, является заставочной в каталоге выставки.
Не менее тенденциозно включение в ряд работ, как бы подытоживающих события 1917 года и обозначающих перспективы страны и ее искусства, изображение туповатого деревенского мальчика с вилами (натурный этюд «Голова с пейзажем», написанный в 1919 году учеником Петрова-Водкина Л. Чупятовым, между прочим — автором действительно замечательной революционной работы 1918 года «К солнцу»).
И уж совсем неприличным является тенденциозное «перетолкование» представленных здесь же классических картин «Большевик» Б. Кустодиева (1920) и «Новая планета» К. Юона (1921), которое не раз озвучивала и сама госпожа Трегулова в СМИ, в том числе в интервью правительственной «Российской газете» и по телевидению. Вопреки традициям прочтения смысла этих произведений в советском искусствознании, а главное — их реальному контексту в творчестве авторов и их собственным высказываниям и поведению в революционные годы, она без зазрения совести приравнивает огромного грозного, но жизнеутверждающего «Большевика» и кустодиевскую мрачную карикатуру 1905 года для журнала «Жупел», где по трупам расстреливаемых «солдатушками» людей на баррикадах шагает смерть с косой. На деле если эта связь и существует, то от противного, по контрасту.
Кстати, знакомство с многочисленными интервью устроителей «Некто 1917» весьма полезно тем, что в них еще откровеннее, чем в текстах каталога, проявляется и специфика их отношения к революции и советской культуре, и характер ангажированности этой выставки.
Так, госпожа Трегулова вопреки всей логике истории и пророчествам якобы любимых ею авангардистов о неизбежности в России «тернового венца революций», оказывается, считает, что не надо ни в чем винить «людей, стоявших тогда у власти», и вообще ей «не кажется, что эти события были неизбежными... Страна находилась на невероятном подъеме... Сформировался круг меценатов, поддерживавших искусство. Уверена, у страны могло быть другое будущее».
Не менее «замечательно» и интервью в газете «Ведомости» И. Вакар — куратора выставки и автора главной, установочной статьи в каталоге: «Если посмотреть на 1917 год, то окажется, художники о революции совсем не думали. А вот когда она произошла, то художники авангарда стали ее использовать. ...Представьте этот год: революция постепенно разрастается, она ведь не как смерч или землетрясение случилась, она как плохая погода — вот, думаешь, прекратится, ан нет, всё хуже и хуже: война, очереди, всеобщая вражда, хулиганство».
О действительном соотношении творчества лучших мастеров искусства и энергии революции мы еще поговорим в следующей статье. Здесь же хотелось бы призвать читателей (и авторов выставки) перечитать лишний раз гениальную статью Блока «Интеллигенция и революция», в том числе горькие слова поэта о том, что «части русской интеллигенции ... точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки... Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках? Это — всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить человека и разбудить в нем зверя».