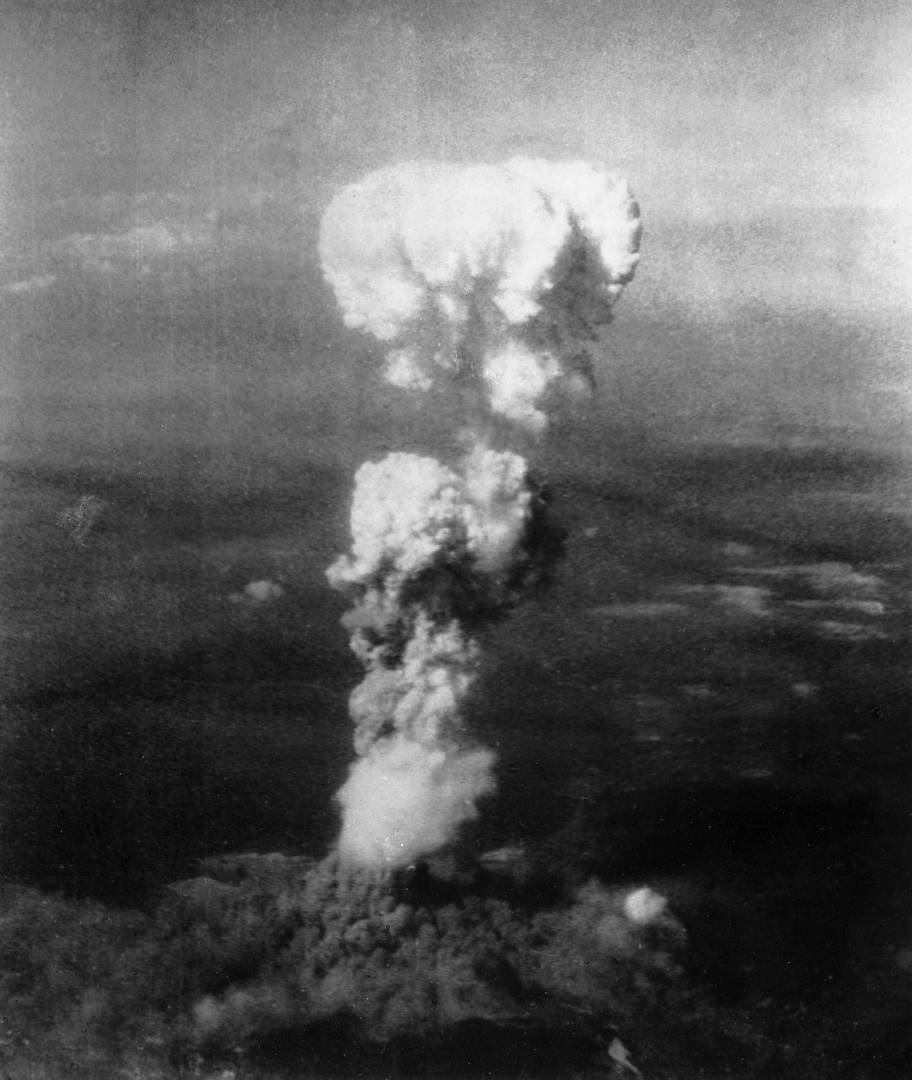О коммунизме и марксизме — 126

Я не раз уже вспоминал об одной моей встрече в конце 1980-х с крайне именитым философом, являвшимся тогда советником Горбачева. Встреча происходила в крохотном зале, находившемся в здании Политехнического музея. Философ был преисполнен самоуважения и ощущения политического могущества. Он утверждал, что все демократические движения, уже носившие откровенно антивластный характер, находятся под контролем власти, и сравнивал этот контроль с мудрой демиургией Создателя, позволяющего свободно действовать своим порождениям. В конце своего монолога философ сказал: «Мы сначала властно вклиниваемся в процесс и оказываем на него внешнее воздействие, а потом предоставляем все возможности живому творчеству масс».
Я обратил внимание философа на то, что такой алгоритм не может не породить ничего, кроме регресса. Что если хирург властно вклинивается в жизнедеятельность организма, то он потом не самоустраняется, а зашивает рану, обеспечивает выздоровление. А если он в тело скальпелем врежется, а рану потом не зашьет, то кранты.
Тогда я первый раз предсказал будущий рукотворный регресс. Потом я много раз говорил о нем, фактически обусловил своей теорией постсоветского регресса ту политическую практику, которую осуществлял. И, надо сказать, ни разу не ошибся, руководствуясь такими представлениями о регрессе, давая, исходя из них, прогнозы, реализуя те или иные политические проекты.
Помню, как в 1994 году Владимир Александрович Крючков, выйдя из тюрьмы, где он сидел по делу ГКЧП, и став моим советником, с явной тревогой спрашивал меня: «Почему нет замера снизу?» — имелось в виду радикальное отторжение обществом ельцинских реформ и всего постсоветского устройства в целом.
Я ответил тогда, что при регрессе не бывает замеров снизу. Это вызвало у Крючкова очень серьезную обеспокоенность. Потом я еще несколько раз обсуждал тему регресса вообще, а в частности — так называемую классовую борьбу в условиях регресса. И доказывал, что классовая борьба возможна только в исторически восходящих обществах. А при регрессе она невозможна по причине отсутствия классов в регрессивном обществе.
Короче, всю эту регрессивную механику я изучил, что называется, от и до, и потому меня не удивляет многое из того, что вытворяется в нашем регрессивном обществе, левая часть которого ничуть не менее регрессивна, чем правая.
И всё же то, что рождает в последнее время левая монструозность, еще мрачнее моих самых мрачных регрессивных прогнозов. Это касается очень многого, в том числе и адресаций к Ленину, осуществляемых как в обычные дни, так и, что называется, к датам.
Ленин умер 21 января 1924 года. Его похороны были величественны и трагичны.
Сам он пытался избежать той участи, которая с неминуемостью вытекала из динамики болезни. Он хотел уйти из жизни раньше и с завистью говорил о том, как сумели уйти из жизни Лафарг и его жена Лаура, дочь Карла Маркса.
Жизнь Ленина полна великого трагизма. Сам он — невероятно крупная фигура, в которой человеческое и историко-политическое содержание слиты воедино.
В маленьком испанском городке я говорил о паратеатре с человеком, хорошо знавшим одного из теоретиков и основных делателей паратеатра Ежи Гротовского. Мой собеседник был настоящим ревнителем традиционной испанской культуры и одновременно левым авангардистом. И еще — содержателем крохотной гостиницы, дававшей ему минимальные средства для пропитания.
В конце разговора я предложил ему и его жене приехать в Россию и выступить с лекциями в моем центре. Они с радостью согласились. Когда я их спросил о том, с кем они хотят в России встретиться, жена ответила: «Мы хотим посетить Мавзолей, чтобы встретиться со своим отцом». И заплакала.
В отдельных случаях еще встречается такое отношение к Ленину. Но вряд ли стоит рассчитывать на что-то подобное в нашей леваческой среде, чьи поминания имени Ленина всуе еще омерзительнее, чем проклятья, которые в адрес Ленина источают либералы и монархисты.
Для того чтобы понять Ленина, надо не только быть знакомым с его творчеством и его биографией. Надо еще и правильно вписать Ленина в мировой культурный контекст.
Именно подумав об этом в годовщину смерти Ленина, я вспомнил Испанию, в которой часто бывал в начале 2000-х, маленький поселок, крохотную гостиницу, разговоры о паратеатре и вдруг вырвавшуюся изнутри боль испанской женщины, сказавшей, что Ленин для нее — отец.
Вспомнив это, я вспомнил Гамлета. Он говорит Горацио:
«Отец — о, вот он словно предо мной!
Горацио
Где, принц?
Гамлет
В очах души моей, Гораций.
Горацио
Я видел раз его: краса-король.
Гамлет
Он человек был в полном смысле слова.
Уж мне такого больше не видать!»
Убежден, что Маяковский в своих стихах и поэмах о Ленине в чем-то ориентировался и на эти гамлетовские строчки.
Ленинская простота…
Самый человечный человек…
Испанская женщина о том, что Ленин для нее отец…
Гамлет о своем отце…
Маяковский о Ленине…
Гамлет…
Когда я был школьником, мы жили в центре Москвы в коммунальной квартире. Комната, в которой мы жили, была разделена перегородкой. По одну сторону перегородки спали я и бабушка, по другую — мать и отец. Перегородка была достаточно толстая, но если одновременно не спал и я, и мать, то мы могли через перегородку переговариваться. Не спали вместе мы тогда, когда матери надо было срочно ночью читать ненадолго переданные ей ценные книги, а мне было охота что-нибудь дочитать из того, что не дочитал днем.
В один из таких моментов ночной читательской синхронности я услышал, как мать смеется, и спросил, почему. Она сказала, что читает размышления Зигмунда Фрейда по поводу шекспировского Гамлета.
Книга Фрейда была из числа самиздатовских, и ее надо было прочитать быстро. Днем времени было мало — пришлось читать ночью.
Мать сказала мне, что Фрейд пытается обнаружить в Гамлете свое пресловутое либидо, а также влечение к матери и порождаемую этим влечением нелюбовь к отцу. И что это очень смешно.
Отсмеявшись, она добавила: «Я много занималась Шекспиром и имею основания утверждать, что всё намного проще и трагичнее. Этого, кстати, не понимают те, кто ставит „Гамлета“…»
Сделав паузу, она добавила: «Просто Гамлет очень любил отца. Он не просто его любил, а очень любил. Если понять это „очень“, то всё остальное тоже становится понятным. А если не понять, то будешь блуждать в потемках и выдумывать всякие либидо».
Я понял, что мать говорит не только о любви Гамлета к своему отцу, но и о своей любви к своему отцу, расстрелянному в 1938 году.
Для понимания Ленина важен и историко-культурный контекст, и иной контекст — экзистенциальный. Эти контексты странным образом сплетаются воедино. Пожалуй, именно это сплетение надо описывать, вспоминая о Ленине в годовщину его смерти, а я пишу эти строки именно в этот день.
Ленин и Гамлет. Правомочна ли такая параллель? Безусловно.
Гамлет видел свою задачу в том, чтобы связать цепь времен. Ленин занимался тем же самым.
У Погодина в «Кремлевских курантах» Ленин в апогее Гражданской войны и разрухи беспокоится о том, чтобы починили Кремлевские куранты, и чтобы эти куранты отбивали новое историческое время, соединяя цепь времен и превращая бытие Российской Империи и Советской России — этих двух ипостасей Российского государства — в единое целое.
Гамлета можно понять только через любовь к отцу. Но можно ли понять Ленина без той его любви к брату Саше, которая является важнейшей частью экзистенциального контекста, вне которого, как и вне контекста историко-культурного, мы по-настоящему Ленина не поймем.
Понять Ленина до конца вообще невозможно, но уловить в нем сущностное можно. Однако лишь в том случае, когда задействуешь всё сразу: и реальные знания о Ленине, и детали его биографии, и экзистенциальный контекст. Тут мало просто констатировать, что Ленин брата Сашу любил. Тут надо уловить, что он его очень любил. И в должной мере учесть значение этого самого «очень», соединяющего любовь Гамлета к отцу и любовь Ленина к брату.

Старший брат Ленина, Александр Ильич Ульянов, родился в Нижнем Новгороде 31 марта 1866 года.
Он был казнен 8 мая 1887 года во дворе Шлиссельбургской крепости вместе с другими своими друзьями — народовольцами.
То есть Александр Ульянов был казнен в возрасте 21 года. На момент его казни Владимиру Ульянову было 17 лет.
В 1883 году Александр Ульянов окончил гимназию с золотой медалью и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.
8 ноября 1885 года произошло то, что в корне изменило содержание жизни Александра Ульянова. Девятнадцатилетний Саша вместе с депутацией студентов посещает Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Вот он — тот историко-культурный контекст, который я всё время предлагаю читателю. Ленин — его брат Саша — Салтыков-Щедрин…
Журнал «Отечественные записки», ставший делом жизни Щедрина после смерти Некрасова, был закрыт в апреле 1884 года по личному распоряжению главного цензора России, начальника главного управления по делам печати Евгения Феоктистова.
Того самого Феоктистова, который в недавнем прошлом был сотрудником этого журнала.
Закрытие журнала «Отечественные записки» сильно повлияло на здоровье Щедрина.
О том, как именно повлияло, можно узнать, прочитав замечательное письмо, которое Щедрин написал русскому литературному критику Павлу Васильевичу Анненкову 3 мая 1884 года, то есть вскоре после закрытия журнала:
«Многоуважаемый Павел Васильевич.
Вот какой со мной казус случился. Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что я на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель. Думал, что я своим лицом действую, а выходит, что я начальником банды был. И всё это я делал не с разумением, а по глупости, за что и объявлен публично всероссийским дураком. И Пошехонье теперь думу думает: так вот он каков! Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! а нынче — вон, с божьею помощью, какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! <…>
Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а Пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой!
Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью! В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие, что я застрелился; третьи, что я написал сказку «Два осла» и арестован. А я сижу себе на Литейной № 62 — один-одинешенек!»
В ноябре 1885 года пошли слухи о том, что Щедрин вот-вот скончается в связи с закрытием журнала, травлей, предательствами близких, абсолютным одиночеством, в которое он погружен.
Тогда несколько студентов Петербургского университета решили навестить Щедрина. Войдя в его дом на Николаевской, они сказали горничной, что хотят встретиться с Михаилом Евграфовичем. Их привели в кабинет. Горничная предупредила гостей о том, что хозяин дома очень болен и надо быть осторожными.
Александр Ульянов встречается с Салтыковым-Щедриным.
Молодой человек, душа которого уже готова к тому, чтобы в ней взросли зерна мученичества, встречается с тяжелобольным, уходящим из жизни, гонимым мучеником.
Щедрин слышит неожиданные для него приветственные слова. Он резко поднимается на постели и снова падает.
Саша Ульянов видит это одиночество, он чувствует эту муку. Он видит широко раскрытые глаза Щедрина, похороненного заживо. Он пожимает руку Щедрина, еще раз встретившись с его огромными слезящимися глазами, и выходит из комнаты.
Через полтора месяца Саша Ульянов делает первые шаги на политическом поприще.
12 января 1886 года умирает Сашин отец.
В феврале 1886-го Александр Ульянов получает золотую медаль за ту работу о червях, осуществление которой было, как казалось его младшему брату, несовместимым с политической деятельностью.
В марте 1886-го Александр Ульянов становится секретарем научно-литературного общества Петербургского университета.
Осенью 1886 года Александр Ульянов уже не просто изучает политические и экономические учения, а организует демонстрацию памяти Добролюбова (вот — опять историко-культурный контекст), рассылает прокламации в связи с этой демонстрацией.
Уже в декабре 1886 года оформляется террористическая группа, в которую входит Александр Ульянов и цель которой — отомстить власти за Щедрина.
В феврале 1887 года группа изготавливает динамит.
7 марта участников группы арестовывают.
В своей речи на процессе старший брат Ленина Александр Ульянов сказал поразительные по силе слова, которые в советскую эпоху знали очень многие. Теперь их не знает почти никто.
Вот эти слова Александра Ульянова:
«Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».
Если в день смерти Ленина вспоминать о нем по-настоящему, то есть контррегрессивно (а иначе зачем вообще бороться в условиях регресса), то только в таком ключе — соединяя забытый сейчас историко-культурный контекст, который в данной работе я стремлюсь вернуть жертвам длящегося регресса, и экзистенциальные обстоятельства, без которых из регресса не выйдешь.
Среди всего народа найдется несколько десятков людей.
Эти люди настолько преданы идеям, настолько горячо чувствуют несчастье родины, что для них не составляет жертвы пойти на смерть.
Тут главное это «не составляет жертвы».
И для Белинского, и для Щедрина, и для Некрасова, и для других подвижничество — а имело место именно оно — не составляло жертвы.
Для Ленина прожить жизнь так, как он ее прожил, и умереть так, как он умер, тоже не составляло жертвы.
Видимо, и Голгофа не составляла жертвы для Христа. Тут главное понимать, что значит «не составляет жертвы».
Человек становится по-настоящему силен тогда, когда всё то, что других поражает именно как жертва, для него самого уже жертвы не составляет.
Суфии бы сказали, что Салтыков-Щедрин передал бараку, то есть духовное устремление, Александру Ульянову. А тот передал его Ленину. Можно то же самое облечь в другие слова, сказав, например, о тонких духовных процессах, без которых рассуждения о духовной преемственности бессмысленны.
Главное в том, что вне этого разговоры о Ленине приобретают в регрессивном обществе не просто мелкий, а унизительно мелкий характер. И безмерно оскорбляют память Ленина, особенно в том случае, когда в постсоветском обществе в условиях большой беды начинают поминать Ленина всуе еще более пошло и тупо, чем это делалось в конце советской эпохи. Тогда понимаешь, что предсказанный тобой регресс — это наше всё. И что контррегресс возможен только при восстановлении той тонкой ткани экзистенциальных наследований, которая одна лишь и превращает русскую судьбу в стержень всемирно-исторического процесса.
Если эта ткань будет утрачена, России — конец. А значит, она не должна быть утрачена!
То есть ее сохранение и восстановление есть наша текущая собственно политическая и одновременно метафизическая задача.
До встречи в СССР!
(Продолжение следует.)