Год СВО

Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 24 февраля 2023 года
Анна Шафран: Сергей Ервандович, мы с Вами беседуем 24 февраля, в годовщину начала спецоперации. И сегодня, конечно же, хотелось бы подвести какие-то промежуточные итоги того, к чему мы пришли, что мы имеем сегодня. Как мы изменились за этот год? Что успели понять и чего еще не осознали? И какие задачи в связи с этой датой мы сами себе должны поставить на ближайшую перспективу, на отдаленную перспективу? И, конечно, такая тема, как «Год спецоперации и наши враги», называя вещи своими именами… Чем Россия стала в мире за это время?
Сергей Кургинян: Это трудные очень вопросы. Мне кажется, что главный вопрос о том, что мы о себе поняли, еще находится во внутренней динамике. Я не знаю, насколько быстро до сознания общества доходит масштаб ситуации, в которой оно оказалось. Какое-то внутреннее легкомыслие, как мне кажется, еще не до конца изжито. Нет ощущения, что люди мобилизовали внутри все свои человеческие ресурсы, что они по-настоящему проснулись.
То, что происходило в предыдущие годы, — это был такой сладкий сон, в нем верхи купались в каких-то новых приобретенных возможностях и упивались этими материальными возможностями, не понимая, что их как дали, так и отнимут. Низы тоже прощупывали ситуацию: больше разболтанности, меньше обязанности соблюдать какие-то нормы, в конечном итоге тоже получение, пусть очень незатейливых, простых, радостей. И казалось, что это постсоветское существование России будет длиться вечно, что оно есть константа жизни. Причем, несмотря на определенные трудности, возникавшие не раз — посмотрите, произошло присоединение Крыма и Донбасса, перед этим Осетия с Абхазией, — ясно же, что процесс движется куда-то. Но он двигался так медленно, что людям казалось, что он вообще остановился, и они таким способом, как в тихой заводи, могут существовать до конца своей жизни. Одних это приводило в уныние, деморализовало, других, наоборот, — безумно радовало. Но постепенно все к этому привыкали. Как говорил один герой Достоевского: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!» Говорилось это про Соню Мармеладову — что привыкли пользоваться и пользуются.
Если Соней Мармеладовой считать Россию, то привыкли пользоваться и пользуются. И будто бы это всё без издержек: вот так и будет, за это никак не придется платить. Это не накапливает проблемы, а просто движет куда-то и движет.
И конечно, я считаю, что с точки зрения этого успокоения всего, погружения в гораздо более упорядоченный сон особую роль сыграли путинские годы. Последние 23 года. Потому что Путин упорядочил ту жизнь, которая была перед ним, он снял налет бури, хаоса, беспредельного бандитизма, абсурда. Он каким-то способом стал эту жизнь, полученную в наследство от предшественника, нормализовывать, выстраивать, организовывать. Он из этого бедлама начал строить какой-то специфический космос.
При этом он был предельно осторожен и строил «космос» из того, что у него было. Он получил в свои руки определенные ресурсы: человеческие, психологические, идеологические. Он их начал инвентаризировать, упорядочивать, что-то отсеивать, что-то, наоборот, добавлять с крайней, предельной осторожностью. И получился тот мир, в котором низы отдыхали неизвестно где, средний класс — где-нибудь в Турции, а верхи — в Италии или где-нибудь еще покруче, — на Сейшельских островах.
И всем как-то показалось, что это всё и есть «нормалёк». Никто не ощущал, что внутри всего этого накапливается энергия страшного мирового процесса, никто не вспоминал то, что когда-то стало эпиграфом к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол»: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Никто тут не считал, что балканские колокола, ливийские, те же сирийские — звонят и по России. Никто не видел, что в центре этого процесса всегда будет оставаться Россия, и никто не хотел понимать, что не для того развалили Советский Союз, чтобы сохранить Россию. Никто там не собирается ее сохранять.
Это было ясно очень немногим, причем вовне. Например, когда я предлагал коллегам из разных западных стран обсудить стратегию, они говорили: «Как с русскими обсуждать стратегию? Стратегия — это на 30 лет, а через 30 лет России не будет». То есть это специфическое благополучие существовало только внутри России. Вовне — смесь презрения, ненависти и жадности, а также готовности двигаться дальше беспощадно в ту сторону, в которую развернули процесс.

В «Холстомере» у Толстого, когда в финале ведут забивать замечательно одухотворенную лошадь, она думает: «Лечить, верно, хотят». Эта бесконечная надежда на то, что будут «лечить», что там всё на самом деле доброе, хорошее и что наконец-то мы как-то с ними договорились, нас приняли и так далее… В реальности же нас ненавидели и презирали жутко. Со всеми этими олигархами на международных встречах настоящие хозяева мира разговаривали просто как с холопами, лакеями, приговоренными к смерти людьми. Сорос говорил: «Нам только не хватало нового буржуазного класса в России с его националистическими идеями. Да мы его уничтожим на корню». Шел 1992 год.
Вся эта реальность оказалась мощнейшим образом проблематизирована спецоперацией. С первого же дня ее. Сама эта спецоперация, — впрочем, как и Крым, и Донбасс, — всё это вместе никак не входило в картину «мирного сосуществования», как говорилось в советскую эпоху. Уже начала изнутри напрягаться ситуация — и не в Ливии и на Балканах, а где-то ближе. Напряжение становилось больше, больше. А люди всё спали, спали, спали. Потом прозвучал колокол спецоперации, и началось медленное просыпание людей. Медленное, мучительное… В каком-то смысле, проснувшись, обнаружили себя у разбитого корыта, как та пушкинская старуха.
Всё это вместе и составляет содержание года. То, как успокоенное, загипнотизированное этой тишиной — тишь, гладь, божья благодать, — общество вдруг обнаружило: «Батюшки, а где же мы, и что происходит?»
С одной стороны, это трагическое обнаружение, а с другой стороны, для меня только в нем надежда. Потому что если бы спали, то лет через 30 обнаружили бы, что вместо общества и государства просто труха.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, когда вы об этом говорите, мне приходит на ум еще одна мысль: есть такая категория людей, с которой, мне кажется, многие сталкивались. Когда в прежние годы мы с ними разговаривали о судьбах отечества, о геополитике и так далее и когда звучала такая мысль: «А я очень хочу великую Россию», эти люди с такой снисходительной улыбкой на тебя смотрели… Их довольно много было. Я думаю сейчас, их по-прежнему так же много. Как вы считаете, этих людей будет становиться меньше или они останутся теми же, будут приспосабливаться? Как будет происходить эта трансформация, на Ваш взгляд?
Сергей Кургинян: Мне кажется, что здесь есть одно заблуждение, и оно носит фундаментальный характер, потому что для Вас, для меня, для очень многих великая Россия — это всё равно, что возможность дышать правильным воздухом. Это возможность пить чистую воду, это возможность быть счастливыми, это как рыба плавает в воде, она не выброшена на берег потребительства, где она задыхается, и непонятно, то ли она должна превращаться в земноводное, то ли ждать, когда ее опять бросят в воду.
Но есть же другие, которые прекрасно на этом берегу уже квакают или ползают, или неизвестно, что делают, которые вышли из этого моря величия на песок прозябания, и говорят: «Какой хороший песочек, как мы хорошо на нем будем жить».
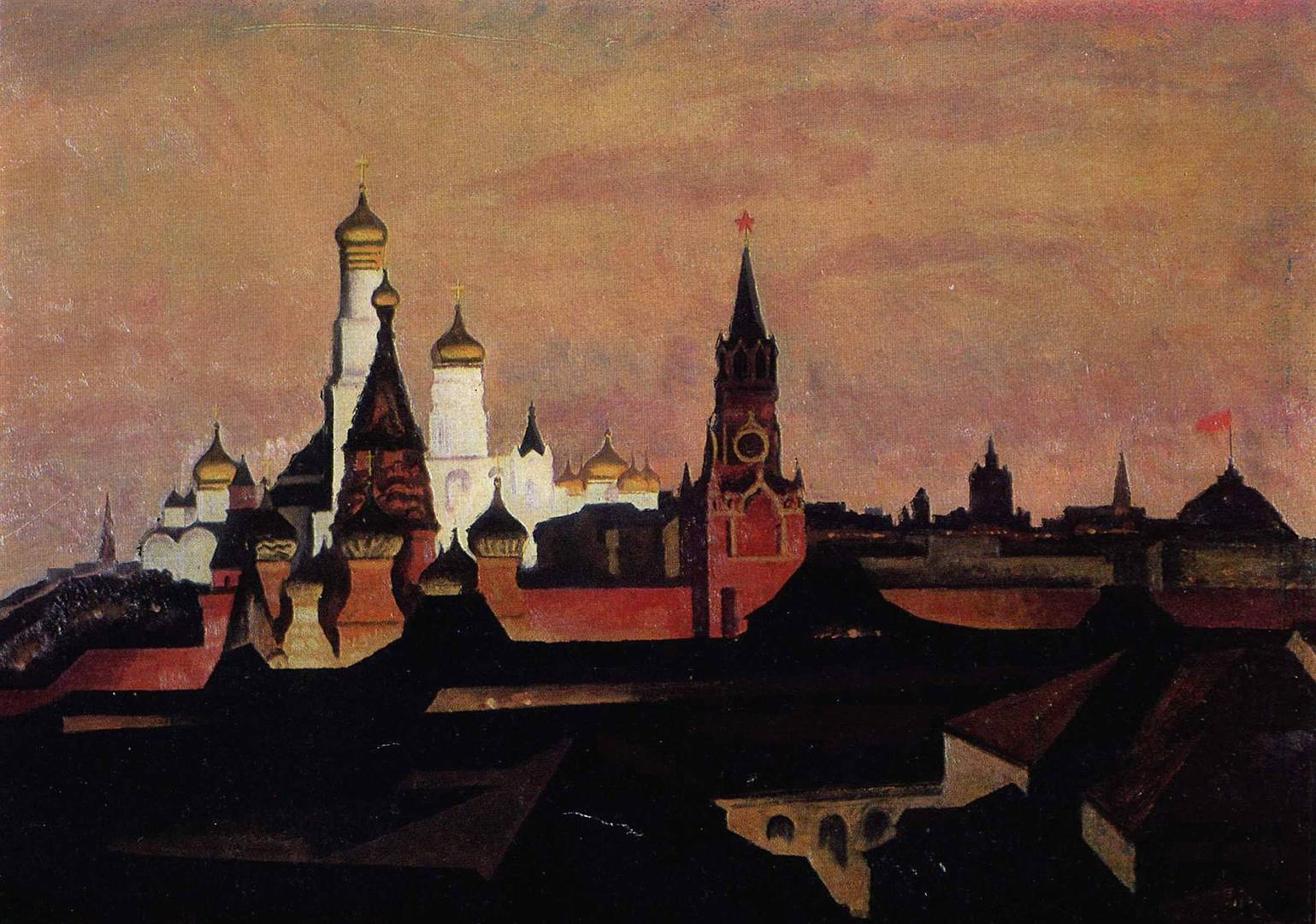
Анна Шафран: Кстати говоря, те, что улыбаются снисходительно, они ведь почему улыбаются? Потому что искренне, в свою очередь, верят, что всё это какое-то юродствование, они не верят, что можно иначе, чем они.
Сергей Кургинян: Конечно, не верят, глубоко не верят. Как-то такой неверующий, занимавший довольно высокое положение, одному из тех, кто уже девять лет от «Сути времени» воюет в Донбассе — сейчас он погиб геройски, — сказал: «Твоему шефу мало будет столько-то за такие-то торговые операции?» И когда ему ответили: «Мой шеф такими вещами не занимается», то этот достаточно высокий чин произнес: «Так сколько же ему нужно?!»
Он не мог себе представить, что «этого» кто-то просто не делает. Он решил, что это означает, будто нужно заплатить гораздо больше.
И это твердое ощущение, что если вы говорите «великая Россия» или нечто подобное, то либо вы люди третьего сорта — но вроде не похоже, ездите в нормальных машинах, строите большие организации, — либо вы «торгуете» этими своими взглядами. Вы же не можете быть настолько сумасшедшими, что действительно хотите какую-то великую Россию. Это мнение нашего оппонента по отношению ко всему слою, который о России говорит искренне, всерьез, как о глотке кислорода, как о счастье, как о чем-то подлинном.
Рассмотрим других людей, которые говорили о том, что величие — это бред, никакого величия уже будет. Одна из моих коммунарок — тех, кто живет на поселении, молодая успешная девушка — великолепно училась и поступила в наше самое прозападное и суперреспектабельное учебное заведение на политологию. Где главный политолог этого заведения на установочной лекции сказал: «Вы должны помнить, что все ваши работы должны начинаться простой фразой — Россия уже никогда больше не будет великой страной».
Анна Шафран: С одной стороны, в это невозможно поверить, а с другой стороны, ты понимаешь, что именно так и было, скорее всего.
Сергей Кургинян: Это так и было, и это были отнюдь не лихие 1990-е. Это было совсем еще недавно и это считалось главной фразой. Ведь вы же должны получать рейтинги в иностранных журналах — а там обязательно надо данную позицию зафиксировать. Это говорилось в учебном заведении, получавшем огромные деньги от правительства, находившемся на слуху, гордившемся своей суперпрестижностью и всё остальное просто презиравшем как пигмеев, поскольку понимало, что будущее — за ним. Это константа той жизни, которая была. Нельзя эту константу вычесть из всего происходящего. Так это всё было и так это до сих пор и остается в каком-то смысле.
Оставим в стороне сантименты или разговоры о том, как именно у этих людей неправильно построены ценности. Не в этом дело. А в том, что стало ясно — неожиданно и с полной беспощадностью, — что либо Россия будет великой, либо мертвой. И третьего не дано. Что существовать, упиваясь «невеличием», прозябанием и чем-то еще из этого ряда, — всего лишь пауза, транзит перед трагическим финалом, перед добиванием, и ничего другого здесь быть не может. Либо она великая, либо никакая — это тот фатум, в котором существовали весь народ, всё общество, вся элита на протяжении столетий — никто просто так «пожить» не даст. Невозможно это.
Говорят: «А что особенного? Будем жить как все». А вот фиг вам «как все»! Начнете жить как все, и тут же добьют до конца, потому что ненавидят, потому что не то место занимаете территориально, потому что не так построены, потому что… Потому что потому, что кончается на «у». Потому что ненавидят сущностно, до конца, и не будет никакого этого обычного существования. Не станете как все. Иначе говоря, никакого национального суверенитета в принципе для России нет и не может быть. Он есть, но не про вашу честь.
Когда-то давно один мой очень патриотичный актер, но с преувеличенно яркой еврейской внешностью, всё рвался в патриотическую среду. И как-то раз он хотел купить «Протоколы сионских мудрецов» где-то на книжном развале, и белокурый мальчик-продавец, посмотрев на него, сказал: «Это про вас, но не для вас».
Так вот, национальный суверенитет — «это не для вас». Нормальное буржуазное государство эпохи модерна с разумно национальной идентичностью, буржуазной экономикой, разумными военными расходами, вписанностью в мир — это не для нас. А для нас либо смерть, либо величие. И как именно это доходит до тех, у кого ценности не такие, как у нас с вами? Для кого это величие неорганично? Как оно доходит до них, вплоть до высшего руководства? Как это доходило всё более и более беспощадно с каждым годом? И когда это началось? Ведь это же когда-то началось. Мне бы хотелось эту цифру обозначить.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, небольшое лирическое отступление. Мы говорим о себе, о том, как состоялся этот процесс просыпания, как он разворачивался, а ведь есть наши западные коллеги, которые живут в Европе. Вот сейчас тот самый эпизод с «Северным потоком», он ведь о чем? О том, что их главный якобы союзник, который за океаном находится, оказался главным злодеем, который против них же действует. Совершен акт международного терроризма, международное преступление, ущерб нанесен, — ладно, там, России, — им самим! Но все эти Германии, Нидерланды, Дании… они ведь ни в коем случае никогда и ни при каких обстоятельствах не поставят этот вопрос на повестку дня потому, что боятся. Этот гегемон рядится в белые одежды защитника, и он же оказывается главным злодеем! Ну когда вы это осознаете?! У них-то просыпание начнется когда-нибудь? Как Вы считаете?
Сергей Кургинян: Нет, они понимают, что как только они возбухнут, их убьют и всё. И это просто как зубы почистить. Поэтому тут никаких вопросов даже нет. Чем они выше по иерархии, чем больше у них капиталы, тем более они в зоне риска, там просто пуля в лоб и всё.
Я помню, меня пригласили где-то в начале двухтысячных на широкий мозговой штурм на тему «Экономические войны». И встает такой статный, с комитетской выправкой, средних лет очень ухоженный человек, занимающий очень высокое положение в ТЭКе, и говорит Павловскому и его коллеге, которые ведут этот мозговой штурм: «Какие еще войны? Какие войны?! Вы что, нас стравливать, что ли, хотите? Какие войны?» Те соглашаются: «Ну, давайте переназовем, напишем «конкуренция». — «Какая конкуренция!» — «А что надо написать?» — «Сотрудничество!»
А пригласили-то на мозговой штурм на тему войны. Я говорю: «Простите, пожалуйста, вы как-то на ходу меняете название конференции?! Это первый мой вопрос. Но это же моветон. Вы можете так сделать где-нибудь на Западе? Ведь не можете, да? И второй мой вопрос: скажите, пожалуйста, как быть с книгами „Нефтяные войны“, вот такие толстые тома на иностранных языках. Я в разных столицах мира — в Пекине, в Дели, Тель-Авиве, в Афинах и в других местах читаю лекции по этим войнам, что мне теперь делать, раз такой запрет?» — Он смотрит на меня и говорит: «Сергей Ервандович, вот Вы и читайте эти лекции в Лондоне, Париже, Тель-Авиве, Пекине и Индии, лучше всего в Тель-Авиве. А здесь не надо. Вы поняли?» — говорит он мне. Я говорю: «Понял», — встал и ушел.
Так что, то, что произошло с «Северным потоком», не есть экономическая война? Ведь разница между войной и конкуренцией заключается в том, что конкуренция снижает издержки, а война взрывает трубопроводы. Понимаете?

Анна Шафран: Итак, оказывается, войны, которые и тогда разворачивались, и сейчас разворачиваются, но нам здесь, внутри страны, пытались рассказать, что их нет.
Сергей Кургинян: Главное-то в том, что этот крупный деятель ТЭКа, такой довольный собой, такой умный, такой проевропейский, такой западный, такой обеспеченный, — он действительно считал, что экономических войн нет, что вокруг Каспийского трубопроводного консорциума не велись экономические войны, что если сейчас куда-нибудь будут прокладывать не те трубопроводы, то их не будут взрывать. Экономическая война, повторю, отличается от конкуренции тем, что при конкуренции выигрывает тот, у кого ниже издержки, и кто, соответственно, может предлагать товар лучшего качества по низшей цене и выигрывать на рынке, а война — это когда взрывают трубопроводы или бомбят страны ради того, чтобы чего-нибудь не было в экономике. Он действительно считал, что этого нет во всех странах мира. У Йоргана была книга по этому поводу, у других крупных американских, европейских авторов — все они знали, что это так, а он считал, что этого нет. Он закрывал глаза или он специально вел себя как представитель оккупированной страны, которому полагается так считать — что этого нет, — не знаю.
Ну вот, теперь положили на стол кейс под названием «Северный поток». Так что случилось с «Северным потоком»? Это не война? А если это можно сделать с данной отраслью, то почему нельзя сделать с соседней? И если кто-то еще не под санкциями, то как долго он будет не под санкциями? «Этот колокол звонит по тебе». «Хороший русский — это мертвый русский» — это та же ситуация, правда? Когда она дойдет до людей, у которых в мозг встроено что-то на самом деле очень странное?
Знаете, по этому поводу я вспоминаю советский анекдот. Не к тому, чтобы каким-то образом, упаси бог, дискредитировать Тодора Живкова — это был очень милый, интересный лидер Болгарии. Там в анекдоте говорилось, что он вдруг странно себя ведет. Перестает ходить на Политбюро, выходит на пляж, берет корзинку, собирает камни, потом сортирует и засыпает. И ничего не могут понять, говорят — придется звонить в Москву. В Москву позвонили: «Сейчас проверим… Ой, извините, вышла ошибка. Мы в него заложили программу лунохода».
Так вот, в этих людей, — не в Тодора Живкова, который был очень уважаемым деятелем, — а в этих людей заложена «программа лунохода». А что нужно, чтобы эту программу стереть? Что нужно, чтобы они не осуществляли известную актерскую рекомендацию «вижу, что дано, отношусь, как задано»? Чтобы они перестали относиться, как задано — что нужно для этого?
Вот уже осуществили взрыв трубопроводов, какие еще кейсы надо положить на стол, чтобы они поняли: они нужны голыми, босыми, ограбленными и в тюрьме, желательно еще и мертвыми, а другими они не нужны. И всем глубоко плевать, кто они по этносу: евреи или кто-то еще, как они говорят на иностранных языках и какие у них родственники за границей. Они русские — и место их у параши.
Как только они перестают быть частью великой страны, они становятся не «нормальной страной», а последними добиваемыми изгоями — вот главное, что должно быть понято.
И я считаю, что эта истина Путину доставалась очень мучительно. Потому что возможность нормализоваться и как нормальная страна вписаться в западный мир была основой, это было кредо Комитета государственной безопасности как минимум начиная с Юрия Владимировича Андропова, который туда и вел, и который ненавидел этот «коммунистический абсурд», будучи членом Политбюро и потом генсеком, и говорил: «Мы не знаем общества, в котором живем». Странное дело, председатель КГБ не знает общества, в котором живет. Всё он знал. Но считал: «Вот станем нор-р-рмальной страной…»
И когда я слышу это от высоких должностных фигур и вижу их лица — как у них слегка расширяется зрачок и они удлиняют букву «р», и говорят: «нор-р-р-рмальная страна, нор-р-р-рмальная» — я вижу невроз нормальности.
В ближайшем окружении Владимира Александровича Крючкова были люди, которые трагически переживали произошедшее в 1991 году, а были люди, говорившие: «Сейчас все будет хорошо, все будет хорошо! Станем нормальной страной! Станем нормальной страной!..» А потом, уже оказавшись и на очень высоком уровне потребления, и востребованным, один из этих людей говорил мне на похоронах Крючкова, отведя в сторону: «Если Путин не сделает так, как надо, то нам всем следует застрелиться за наше преступление».
Этот невроз не только денежный. Кто-то обогатился, а кто-то осуществлял проект и считал, что он ведет к «пленительному счастью», к этой самой «нормальности». И после того как проект оказался поломан, произошла такая глубокая психологическая ломка, такой стресс, такой шок, что дальше некуда.
Примерными датами, когда это произошло, я считаю последние годы первого десятилетия XXI века, когда прямо и достаточно жестко сказали: «Да, введем, возьмем вас на Запад, будете вы в западном мире, но только по частям. Разделитесь на части, как хотите — по частям возьмем, а целиком — нет».
Я повторяю, это датируется самым концом нулевых, последней частью первого десятилетия. И вот тут произошел раскол уже и в Комитете государственной безопасности, как я считаю, по условной линии (условной, я подчеркиваю, не буквальной, — везде были абсолютно порядочные работники, их было большинство, и они сражались за интересы Родины, и они верили в ее величие, хоть и были с разными мировоззрениями), но условно раскол произошел между Пятым управлением и Третьим. Тогда представители Пятого управления, обычно маркируемые личностью очень крупного представителя Комитета госбезопасности Филиппа Денисовича Бобкова, сказали: «Пусть и по частям!» И такой Ракитов, чей генезис хорошо известен, начал выступать, говорить: «Страна должна быть маленькая, с хорошими сортирами. У меня со зрением плохо, а нюх у меня хороший. Я, когда захожу, понимаю, хороший сортир или плохой». Так вот, нужны хорошие сортиры, а не величие.

И это противопоставление хороших сортиров величию идет еще из сталинской эпохи, когда на партконференции 1926 года некий Минин из Гомеля (заметьте — из Гомеля) произнес: «Вы говорите: строим, строим социализм. Мы строим социализм, когда у нас нет культурных сортиров». И потом Сталин на это: «Стало быть, у нас на повестке дня не индустриализация, а сортиризация?» Так что на XV партийной конференции эта «сортиризация» была уже очень популярна.
Вот это и есть невроз нормальности: нор-р-рмальная страна, нор-р-рмальная… И, между прочим, когда невроз начинает ломаться, то возможен любой внутренний кризис. С таким невротиком ни о каком величии говорить нельзя — когда он разочаровывается, ему ничего не стоит начать орать на суперпатриотической фене о том, что надо нажать на красную кнопку и пустить ядерные ракеты.
У меня в одном спектакле есть фраза:
«Хотим мы жить нормально, трам,
Нормально, понимаете,
Для этого разрушили
Советский мы дурдом,
Но если вы нас тронете,
То мало не покажется:
Красиво, трам, мы пожили,
Красиво и умрем!»
И сейчас я слышу это из многих точек. Вместо того чтобы работать, осваивать имеющиеся результаты и приспосабливаться к новой реальности — как, я надеюсь, делает президент и конструктивные силы вокруг него, — вот этот тезис: «А сейчас как нажмем… и фиг ли там маяться, париться, упираться. Раз — и получите! И всё будет хорошо». Вот этот тезис как раз является следствием поломанного невроза. Когда вдруг обнаружили, что нормально нельзя, что там не относятся так, как ко всем. Что не проходит: «Давайте станем как все, перестанем строить этот идиотский коммунизм, создадим буржуазную систему, создадим демократию (управляемую, неуправляемую — отдельный вопрос), войдем туда, с мылом или без мыла, в это отверстие западной цивилизации, и заживем в раю». Что вдруг — облом, и всего этого нет. И всё оказалось не так…

Вот эта альтернатива — величие или смерть, — я считаю, встала в полный рост, ярко и экзистенциально, перед президентом России. Когда он понял, что ему говорят, что «нормальными будете, когда разделитесь на части», он сказал: «Дудки».
И вот здесь случился крутой поворот. Он еще только начинался в преддверии того, что произошло в Осетии, но он уже произошел. Потому что стало ясно, что по частям — фигу. Что сливать «термояд», — как потом один человек, прекрасно освоивший профессию швеи-мотористки, все время говорил и предлагал: давайте мы за 200 млрд сольем «термояд», — никто не хочет. Вот тут вдруг встал вопрос: величие — это прибамбас, это бантики, от которых можно отказаться, фантазии неких патриотов или это хлеб насущный? Что если этого величия нет, то нет ничего?!
А дальше встал следующий вопрос: а, может быть, мы добьемся величия в пределах так называемого национального суверенитета без перехода к сверхдержавности? Может быть, достаточно напрячь мышцы того, что мы создали, и это величие уже будет? И это была иллюзия до начала специальной военной операции. С этим мы вошли в нее, с верой в то, что величие возможно на основе той же базы, на какой строили нормальность, что эта нормальность и величие соединимы, что можно было сделать с армией то, что делалось при Сердюкове, «нор-р-рмализовать» ее, привести ее к западным стандартам, сделать частью западной системы, купить западные военные корабли и все прочее, загнать армию за Можай, сделать ее небольшим придатком к обществу, а потом с этой армией, про которую сами же начали верить, что она создана для величия (убедившись, что что-то можно делать в Сирии и так далее), — с этой же армией можно развернуть крупную сухопутную войну на большой территории и победить. Быстро, лихо и так далее.
Эти иллюзии опять же невротичны, понимаете? Потому что они основаны на том, что когда встал выбор — величие или смерть, оказалось, что смерти не хочется. Тогда было сказано: «А у нас величие будет втиснуто в прокрустово ложе существующей нормальности, мы обеспечим и нормальность, и величие».
Как известно, два взаимопротивостоящих занятия не могут быть осуществлены одновременно по принципу «и, и».
Сказали: «А то, что мы создали, — оно же не противоречит величию. Всё нор-р-рмализовали, рационализировали, оптимизировали, вестернизировали. Стало еще мощнее, мы идем от победы к победе. И вот сейчас, как махнем своей шапкой направо-налево, так за одну неделю всё будет сделано и будет окончательный триумф». И тут вдруг выяснилось, что реальность — история — имеет неотменяемые константы и что иллюзии иллюзиями, фантазии фантазиями и утопии утопиями, а есть беспощадная правда жизни. Она огрызнулась и показала свой лик, сказав: «Вот вы хотели без величия, а без величия будет так».

Анна Шафран: Сергей Ервандович, вы очень лаконично обозначили суть происходящего, тех процессов, которые мы сегодня наблюдаем, что касается России. Величие или смерть! И еще. Стать нормальным, как выяснилось, это для нас тождественно исчезновению. Более того, мы наблюдаем, как в соседней стране, на Украине, ровно то же самое случилось. Они хотели стать нормальными. И теперь мы со всей очевидностью наблюдаем прямые последствия тех реализованных предложений, на которые мы, слава тебе Господи, еще не успели окончательно согласиться. Какие мы для себя главные выводы должны сделать? На чем мы должны сегодня, в этот момент, зафиксироваться?
Сергей Кургинян: Смотрите. Одна группа всегда говорила: «Величие для нас органично, мы стремимся к нему». Другая говорит: «Нет, нормальность, а не величие!» Когда стало понятно, что величие или смерть, то этой группе предъявили данный факт и сказали: «Что хотите-то?» И Путин, и весь патриотический истеблишмент, который тем не менее никогда за смерть бы не проголосовал, они сказали: «Величия хотим! Смерти не хотим. Страна не распадется, страну будем защищать». И прибавилась группа искусственных «величников».
Анна Шафран: Как это прекрасно звучит.
Сергей Кургинян: Искусственных! По необходимости! Она, в свою очередь, разделилась следующим способом: на тех, кто соединяет нормальность и величие, и тех, кто говорит, что придется всё менять, и что та нормальность, которую перед этим установили, несовместима с величием. У нас не может быть «нормальной» армии, у нас может быть великая армия или никакая. Мы не можем войти в мир цифры — мы можем совершенствовать свои компьютеры, мы можем совершенствовать вычислительную технику, но мы знаем, что «в начале было Слово». И когда нам говорят, что «в начале была цифра», мы не будем с этим соглашаться.
Мы не можем двигаться в системы генных модификаций и всего остального просто потому, что мы хотим, чтобы человек восходил — а тогда на помощь к нему придет наука. А не так, что это наука подомнет человека, превратив его в свинью — уже же создан гибрид свиньи и человека — и так далее. Мы не можем туда двигаться. Нам не только величие нужно, нам нужна эта инаковость, альтернативность, это мессианство. Это тоже хлеб насущный.
Так — можем выстоять. Иначе — смерть. Сейчас мучительно осмысливается это, и люди, которые стояли за «нормальность», они за нее мертвой хваткой держатся, и не знаем мы, когда окончательно станет ясно, что это не сочетаемо или сочетаемо через ядерный удар. «Карибский кризис», как сейчас говорится.
Эту нормальность придется мучительно, медленно, очень бережно избывать. Ее придется менять всюду, по всем осям, а у нас цепляются за каждую кроху нормальности и вписанности — за это ВТО чертово, которое уже никому не нужно и ничего не значит. «Нет, оставьте нам наши параметры, оставьте нам наши прибыли. Оставьте нам цены на металлы и другие продукты», которые армию категорически не устраивают и которые невозможны, если мы хотим производить оружие в нужном количестве и нужным образом.
Я читаю иногда на сайтах ключевых институтов страны: «Требуется специалист с такими-то характеристиками, доктор наук с опытом управления, военной практикой. Зарплата 15–20 тыс. руб».
Какие 15–20 тысяч?! Вы оборзели?! А 150 тысяч не хотите? Для начала! Чтобы хоть что-то началось, если уж вы всё на деньги считаете, а на самом деле в России никто на деньги всё не считает. В России всё считается иначе, и эти процессы медленного осмысления и выстрадывания, вымученного понимания того, что не только величие нужно, но и отказ от этой ублюдочной нормальности во имя подлинности и во имя настоящего русского мессианского бытия.
Оно окажется прагматичным, я убежден, идеализм — прагматичен, а чистая прагматика будет давать сбой, сбой и сбой. Дай бог, если я не прав. Нужен выигрыш любой ценой, и я вижу, как это разворачивается в каждой молекуле низового русского бытия.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, огромное Вам спасибо за эту сегодняшнюю беседу 24 февраля 2023 года — мы запомним эту дату. Я думаю, что мы должны с радостью смотреть в глаза сегодняшним обстоятельствам, потому что, наконец, мы наблюдаем то, чего так ждали и чего чаяли. Спасибо Вам большое за то, что Вы так доступно и по полкам разложили все процессы, которые мы сегодня переживаем. До новых встреч!
Сергей Кургинян: До новых встреч!

















