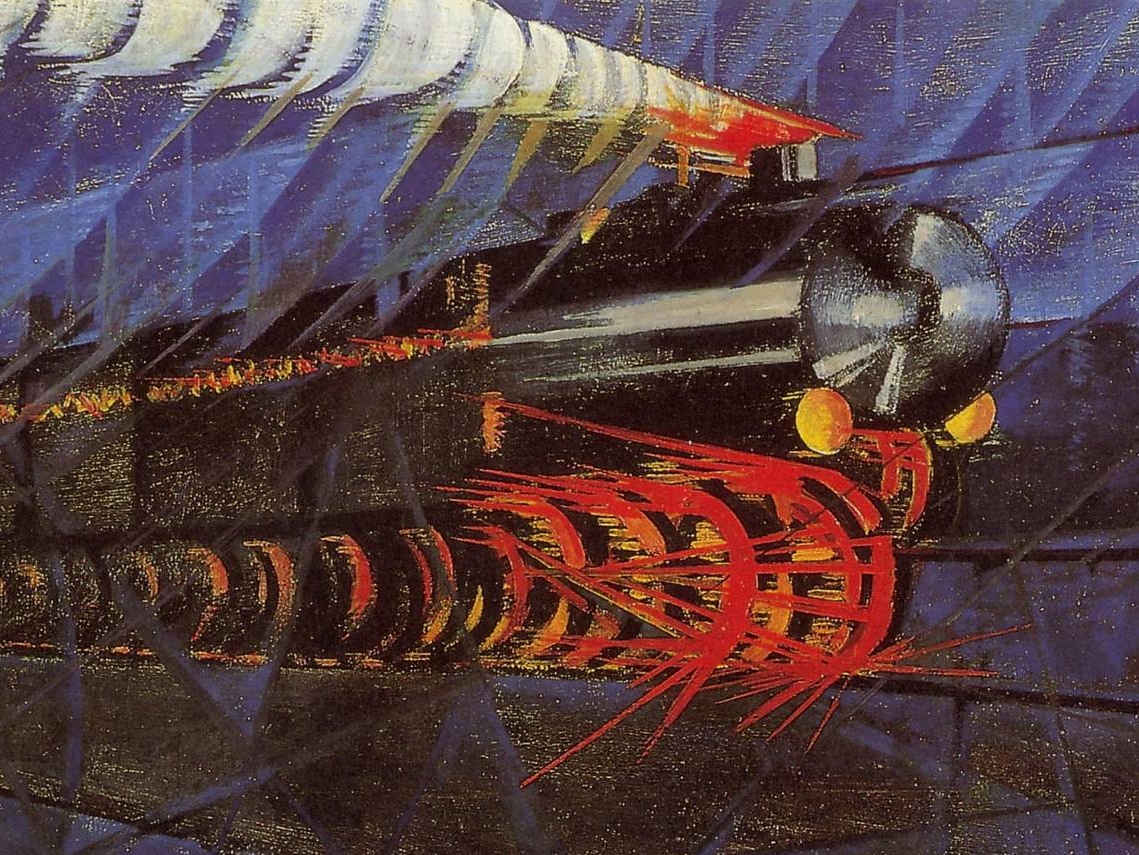Сможет ли русская мысль сказать новое слово в XXI веке? Интервью

Конфликт двух Европ, России и Запада, всё больше приобретает мировоззренческий и экзистенциальный характер, предполагающий не только отстаивание геополитических интересов, но и борьбу двух концепций существования.
У Запада есть своя точка зрения на человека, которую можно свести к отрицанию его ключевой роли в судьбе живой материи, или шире — Вселенной. А раз так, то тогда нужно убить в человеке всё подлинно человеческое, нужно убить любовь, убить способность создавать прочные социальные структуры, убить в человеке чувство сопричастности к человеческому роду, к чему-то большему, чем он сам.
Как ответит на этот вызов Россия? В чем особенность русской философской мысли? О чем сейчас должна быть русская мысль?
О ее прошлом и будущем ИА Красная Весна поговорило с философом, старшим преподавателем СЗИУ РАНХиГС при президенте РФ Никитой Сюндюковым.
ИА Красная Весна: Никита Кириллович, здравствуйте! На Ваш взгляд, какие точки соприкосновения имелись у русской мысли и марксизма? Ведь цельность, этическая и практическая направленность, характерная для русской мысли, также есть и в марксизме. И если вспомнить первый тезис о Фейербахе, где Маркс пишет о том, что материализм должен рассматривать действительность не в качестве объекта, а с точки зрения человеческой практики, субъективно, чем и занимался идеализм, не является ли этот тезис о том, что по Марксу нужно «одухотворить» материализм или, наоборот, найти материальные основы для идеализма, что также можно найти нечто схожее в текстах русских философов?
Никита Сюндюков: Вы упомянули очень важное слово, понятие «объект», потому что от него удобно раскручивать сближение русской мысли, русского идеализма с марксизмом. И вообще, когда Вы упомянули первый тезис о Фейербахе, я подумал, что традиционную четверку немцев — Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг — можно было бы дополнить Марксом. Может быть, если бы мы понимали его не как оппонирующего идеализму, а действительно включали его в число великих идеалистов, то и история по-другому сложилась, по крайней мере, история идей.
Ведь понятие «материи» и у Шеллинга, например, играло огромную роль. Его философия природы суть то, как через материю и только посредством материи себя может проявлять Божественное, и Божественному нужна точка приложения, в которой оно себя являет, и по диалектическим законам сама эта точка приложения становится субъектом. Идея Шеллинга о тождестве субъекта и объекта, которая в конечном итоге переходит в философию откровения, где на роль материи можно поставить предшествующие христианству мифы, прежде всего древнегреческие, другие религии, которые тоже Бог использует как некую материю, сквозь которую постепенно прорастает христианское откровение, и которое необходимо предшествует откровению христианскому. Они не просто какие-то случайности, они нужны для того, чтобы христианское откровение возникло. Материя в христианстве, и это подчеркивали все русские философы, как бы сближая христианство и марксизм, играет огромную роль.
Даже Хомяков, один из основоположников славянофильства, размышляя в своей работе «Церковь одна», подчеркивал, что в христианстве нет никакого презрения к телу. Наоборот, в христианстве тело возносится на самый высокий из возможных уровней. И «платонический идеализм», несколько бескровный, очень абстрактный, уходящий в небеса, он к христианству имеет отношение очень специфическое. Кроме платонизма была необходима какая-то материально-телесная прививка, например иудейство, для того чтобы возникло христианство. И Хомяков эту интуицию тела и материи подчеркивал.
До него еще Чаадаев отличал православие от протестантизма тем, что и в католичестве, и в протестантизме причастие (вино и хлеб) признаются телом и кровью, что это реально-материальное присутствие Бога. Не просто как идея, символ, метафора, а реальное телесное присутствие, к которому мы реально телесно причащаемся, то есть материально. В христианстве эта конкретика очень важна.
Что касается этого известного перехода из марксизма в идеализм, а затем в церковь, то вновь вернемся к вопросу объекта. Мне кажется, что в этом плане наиболее показателен для нас Бердяев, который марксистское понятие объекта и объективации сохранит на протяжении всей своей жизни. Это для него один из ключевых концептов, который он использует для развития своей философии. Он ненавидел объективацию. Для него любая внешняя механистическая картина мира, которая не усматривает духа, она объективирует человека.
То есть рассматривает его как объект, который можно встроить, как кирпичик, в ту или иную систему. Из такой призмы объективации, которой заражены все дисциплины, все идеологии, все теории, игнорирующие духовное измерение, человек устраняется как духовно-индивидуальное существо, как личность. Человек как живая личность превращается в статистическую единицу. И в марксизме, судя по всему, его привлекала именно эта борьба против объективации, борьба за освобождение, эмансипацию человека, за раскрытие его подлинного творческого потенциала.
Интересно, что и у Достоевского такая интуиция есть. В его воспоминаниях о поездке в Париж, когда он гуляет пятничным вечером по городу, заходит в кабак и видит, как там рабочие отдыхают. Он видит этих напивающихся и наедающихся рабочих, которые только в пятничный вечер могут специфическим образом чувствовать себя подлинными. Ведь до этого, работая не покладая рук, они были функцией, частью производственной машины, у них не было возможности обратиться на себя как на себя. Здесь уже не до духовных вопросов, здесь хотя бы материально себя удовлетворить.
Достоевский никогда конкретно свои политические воззрения четко и определенно не выражал, но в конечном счете он считал, что русская идея — это христианский социализм. Не просто социализм, сформированный в каком-то светском пространстве, а церковный социализм.
Мне кажется, что это борьба за живое, борьба против такого идеалистического иссушения человека, претворение его лишь в какое-то аспект высшей идеи, совершенно игнорирующего реальную конкретику, она и привлекала русских мыслителей, «русских мальчиков» к марксизму. В марксизме они видели эту витальность, внимание к человеку.
Но почему происходит очень быстрый отход у того же Бердяева? Он видит, что те цели, которые перед собой ставит марксизм, возможно, дурно понятый, несильно отличаются от целей, которые перед собой ставило капиталистическое общество. Цели, которые сводятся к идеологии брюха. Сытость уводит человечество от его главной задачи. Когда ты сыт, ты становишься гораздо более глухим к духовному измерению.
Хемингуэй говорил, что он любит ходить в Лувр голодным, потому что на голодный желудок лучше воспринимается искусство. Зачем нужны ограничения? Чтобы ты был более тонким к духовным измерениям, чтобы у тебя не было телесной прельщенности. И русская мысль довольно быстро в лице Бердяева, Булгакова определила в марксизме, по крайней мере, каким он виделся тогда, те же самые цели, которые ставит перед собой капитализм, их некоторую глубокую родственность, просто с разных сторон работающую на одну и ту же цель.
Но многие интуиции марксизма они всё равно сохраняют в себе. У Бердяева, повторюсь, это понятие объективации как главного идола, с которым надо сражаться. Всё, что объективирует человека, любая политическая, идеологическая система, даже религия, когда она видит в человеке только слугу, ее следует деконструировать, отбросить, как-то диалектически снять. У Булгакова, например, не берусь судить о его богословии, когда он стал священником, хотя насколько я понимаю, до конца жизни тоже исповедовал христианский социализм, у него есть замечательная книга, когда он полностью от марксистских позиций отошел, «Философия хозяйства», где он, задействуя весь свой светский ум, в том числе выкованный в марксизме, пытается переосмыслить понятие хозяйствования.
Там у него впервые всплывает понятие Софии, которая становится ключевым для его философии. София — это субъект хозяйствования для него, ни много ни мало. Это первое определение, которое он дает. Что это значит? Это значит, что в синтезе Бога и человека через хозяйство — хозяйство как возделывание земли, возделывание культуры, возделывание души в конечном счете — происходит София, София собственно творит хозяйство в широком смысле.
И у него есть там очень интересное замечание касательно экономики. Он говорит, что Марксу следовало брать в свои духовные отцы не Гегеля, а Шеллинга. Если бы это произошло, то может быть, всё пошло совсем другим путем. Гегель постулирует наличие абсолютного духа, который через витки самооткровения, саморазвития приводит человека к абсолютной идее. Маркс на место абсолютного духа ставит материю, которая через собственное развитие ведет человека через витки истории.
Если бы мы поставили на место духа или материи конкретного Бога, конкретную личность, Христа, то здесь мы бы сохранили тогда уважение к конкретному человеку не просто как к какому-то моменту движения абсолютного духа, а как к существу, в котором Бог целиком и полностью может присутствовать. Мы бы сохранили этот момент движения, момент историзма, который очень важен для марксизма, и в то же время мы бы сохранили уважение к труду, к творческой активности, цель освобождения которой тоже ставит перед собой марксизм. Тогда те концепты, которые вытекают из него, могут быть реализованы уже под совершенно другим углом.
Если обобщать то, что я сказал, мне кажется, общая интуиция марксизма и русской философии, религиозной или идеалистической, в высвобождении человека, его творческого потенциала, но цель этого высвобождения они как будто бы трактуют по-разному, хотя может быть с подлинным марксизмом можно найти какие-то точки сближения.
ИА Красная Весна: Что отличало русскую философию от западной?
Никита Сюндюков: Русскую философию отличало ее, во-первых, молодость. Конечно, у западной философии были свои многосотлетние разрывы. Аристотеля, которого часто описывают как человека, вдохновившего всю схоластику, открывают только в позднее Средневековье, благодаря крестовым походам, налаженному диалогу с арабами. До этого вся Европа вообще Аристотеля не знала, ориентируясь в большей степени на Платона. И тем не менее всю историю западной философии от Фалеса до условного Хайдеггера можно описать как более-менее не прекращающуюся цепочку дискуссий, как более-менее не прекращающийся диалог.
Русская философия возникает только в XIX веке, не вступая при этом в диалог с предшествующим никаким образом. Даже у Хомякова мы не найдем особых ссылок на русское монашество, на богословов русской церкви. В строгом смысле он не являлся именно церковным мыслителем в том плане, что он не присутствовал в «энергетическом» поле церкви, в ее собственном дискурсе. Он формулировал свое собственное представление о церкви, которое известно под понятием соборность.
Это ключевое отличие. Западная Европа имеет долгую философскую традицию, у нас по сути традиции никакой нет. Мы начинаем с нуля и при этом вынуждены очень невероятно бешеными темпами нагонять, потому что нам надо говорить с Западом не как ребенок со взрослыми. Мы, если хотим себя понять, должны с ними говорить наравне, потому что философия — это орган самосознания.
ИА Красная Весна: Что и почему мы должны были догонять Запад в контексте философии?
Никита Сюндюков: Это, мне кажется, вопрос о том, почему философия ранее вообще не возникала как таковая в России. Этот вопрос очень часто возникает у людей, которые как-то пытаются в нее погрузиться. Почему она так поздно у нас возникает? Можно приводить социальные факторы, что был диктат церкви, продолжавшийся вплоть до эпохи Петра, который не давал вольности философии, философствующему духу, что затем была тотальная зараженность французским просвещением в XVIII веке. И поэтому только в XIX веке русский голос уже как-то начинает среди всего этого прорываться.
Но я лично не склонен прибегать к социо-детерминистским или к социо-конструктивистским объяснениям. Но, мне кажется, более удачный ответ (потому что он более соответствует духу, а не букве, то есть внутреннему, а не внешнему) дал Евгений Трубецкой в своей книге «Умозрение в красках. Три этюда об иконах». Свой первый этюд он сразу начинает с вопроса «Почему у нас не было своей философии? Почему она возникает только сейчас на рубеже XIX–XX веков?». А потому, что у нас есть некоторое презрение к слову. Тютчевское «мысль изреченная есть ложь». Но у нас была философия не словесная, а философия в образах. А философия в образах — это икона. В иконе она была дана, наша философия, наше умозрение в красках.
Тут можно немножко на этот счет порассуждать. Что такое слово? Слово — это некоторая дискурсивная практика. Это дление рассуждения, мысль, разбитая на определенные фазы, которые можно как-то анализировать, раскладывать, расчленять, перестраивать, переконструировать. В конечном счете слово очень близко к аналитическому подходу, который не предполагает сразу заданной цельности и завершенности. В этом отношении всё написанное словом сложно завершить, сделать интуитивно целым.
Это всегда можно почувствовать, когда мы читаем какой-либо философский труд, когда мы смотрим и понимаем, что что-то не договорено, что-то не до конца прояснено, есть какое-то огромное количество темных мест. И это свойство слова. Великие поэты могут создать слово как образ, как нечто цельное. Но в том, как слово выражает идеи, есть незавершенность, какая-то критичность, неизбывный скепсис. Скепсис — это понимание того, что ничего не может быть завершено; если нечто завершено, то это какая-то «обманка».
А образ дан в иконе сразу. Ты подходишь и сразу видишь эту идею, тебе не надо ее постепенно раскручивать, развивать, следовать за ней мыслью, потом пытаться всё это как-то собрать, удержать и дать в законченной форме. В образе она тебе дана сразу. Ты можешь попытаться ее переложить в слова, начать описывать икону и ее смыслы, но постепенно ты попадешь в дурную бесконечность, понимая, что сколько не говори, до конца всего не выразишь. И в этом преимущество иконы перед словом, образа перед словом — он дает тебе всё сразу. И, возможно, это стремление русского духа к цельности, пишет Трубецкой, оно и останавливало нас перед словом.
Почему в русском языке философ часто имеет коннотацию профессионального болтуна? Есть подозрение к философии как к бесполезному болтанию языком, которое только тумана наводит, а ясности не дает. А образ дает сразу ясность и цельность. Смотришь, и всё сразу понятно, и говорить ничего не надо. В некотором смысле идеал русского человека — это святое молчание, потому что, как только начинаешь говорить, болтать, дискутировать, обсуждать, всегда как будто бы растет недопонимание. А когда вы просто сидите друг подле друга и молчите, значит всё понятно, всё хорошо, у вас души прозрачны.
Мне больше всего нравится такое объяснение возникновения русской философии в XIX веке. Потому что в каком-то смысле философствование в европейском ключе, философствование как разговор, как бесконечно длящаяся дискуссия, русской мысли несвойственна. Ей скорее свойственно образное мышление. И здесь, возвращаясь к последнему тезису о Фейербахе, понятно, почему Маркс так хорошо пришелся, потому что в марксизме есть очень твердая связка между словом и действием. Марксизм стремился найти между ними связь, что очень важно для русской мысли. Если теория не имеет конкретной импликации, конкретного прагматического измерения, она мертва. И образ, наверное, дает гораздо больше условий для такого конкретного действия.
ИА Красная Весна: Если мы говорим о философии как о проповеди или руководстве к действию, то мы не можем обойти стороной вопрос о человеке. Как рассматривала русская мысль идею Человека, и есть ли здесь переклички с марксизмом?
Никита Сюндюков: В марксизме есть понятие историчности человека. Человек обусловлен той исторической эпохой, в которой живет, и его мышление обусловлено этой эпохой, и нет какого-то универсального человека, который был бы адекватной моделью для описания человека в разных исторических эпохах. Буквально — люди с разных планет, человек эпохи феодализма и человек эпохи капитализма. Это разные, генетически разные типы. И если мы хотим говорить о человеке, мы должны задать вопрос, в какой общественно-экономической формации он живет, а о человеке как таковом говорить невозможно.
В русской философии важно представление универсального человека, потому что универсальным человеком является Христос. Люди созданы по образу и подобию Бога. Конечно, Христос может проявляться в каждом по-своему, в каждом по-разному, но тем не менее общая точка схода в нем существует.
Философ Лев Платонович Карсавин в своей замечательной книге «Философия истории» рассуждает над очень сложными проблемами, которые, кстати, крайне важны в русской философии, сочетанием единства и множественности, той самой соборности. Соборность — это единство во множественности, самое адекватное описание ее, которое наследует еще платоновскому Пармениду. Проблема сочетания единого и иного, единого и множественного. Соборность есть такая возможность собирания людей в некоторое общее тело, которое не ущемляет личности отдельного взятого человека, а позволяет ей расцвести.
Об этом и коммунизм говорит: люди себя обнаруживают в коллективе. Карсавин говорит о том, что Христос обуславливает это единство во множественности, потому что он, с одной стороны, нисколько не отрицает, что каждый человек занимается тем делом, которое ему даровано, к которому он призван, но при этом какой-нибудь биржевой маклер, и солдат, и священник, и крестьянин, и пролетарий, они все восходят ко Христу. Для всех них он идеал, хотя очевидно, что они существуют в совершенно в разных жизненных контекстах и воспринимать они его будут по-разному. Но восходят они все к нему, а это обусловливает возможность какого-либо понимания между ними, что у них есть точка схода.
В марксизме русские мыслители видели рудимент гегелизма, связанный с представлением об истории. Они не были согласны с идеей, что в конечном счете царство небесное в виде коммунизма получают только наши дети, а мы лишь служим «удобрением» для его будущего торжества. Достоевский в Пушкинской речи говорит, что (постоянно повторяющаяся у него идея), допустим, вам предлагают царствие небесное, но для этого вам нужно замучить одного несчастного ребеночка. Царствие небесное, но один ребеночек или один человек будет замучен. Будет ли это царствие небесное или нет? Вопрос риторический.
Это дискуссия тянется еще от Белинского, который поначалу полностью признавал гегелевский историзм, идею о том, что каждое поколение лишь реализует определенный виток Духа, который ценен не сам по себе, а лишь как некоторая ступенька для следующего витка. Он потом понял, что эта идея кровожадная. Это значит, что наше благосостояние держится на крови и костях предшествующих поколений. И как видели русские мыслители, марксизм наследует так или иначе этой идее.
Есть некоторые ступени, в рамках которых невозможно оправдать страдание наших предков. Счастье следующего поколения никак не оправдает страдание боровшихся и погибших пролетариев против злосчастных капиталистов и буржуа.
Интересна позиция русской мысли по поводу универсальности человека. Бердяев писал о том, что русский человек мечется между началом ангельским и началом звериным, минуя собственно начало человеческое. Он либо ангел, либо зверь, среднее, что есть, просто человека, ему недостаточно, ему нужно либо туда, либо сюда. Забавно, что этот образ он берет у блаженного Августина, который тоже говорит, что есть три этапа, три стадии природы: звериное, человеческое и ангельское. Но он говорит, что есть специфическое человеческое, которое в себе и звериное, и ангельское сочетает. А, по Бердяеву, собственно, только русский человек сочетает в себе эти два начала в их полноте. Чтобы и звериное, и ангельское полностью.
Европейский человек, успокоившийся буржуа, держится как бы в серединке: немного звериного, немного ангельского. Русский же эти две противоположности в себе «схлопывает». В этом отношении он как раз и становится универсальным человеком, и поэтому может сказать миру новое слово, которое как-то переопределит судьбу мира. И здесь мы снова вспоминаем марксистский утопизм, эсхатологию. Почему красная теория в России лучше всего прижилась? Русский человек более восприимчив к таким утопическим проектам, абсолютным проектам, которые должны полностью пересобрать всю реальность ввиду его широты, куда входит и звериное, и ангельское начало.
ИА Красная Весна: Может ли Россия на философском поприще сказать новое слово?
Никита Сюндюков: Отличие западного гуманизма от русского, мне кажется, хорошо суммируется в апокрифе Достоевского, потому что он этого никогда не говорил, но стало мемом «Русский человек без Бога есть дрянь». А поскольку русский человек — это, вспоминая Бердяева, человек как таковой, то он в таком случае теряет свою богоданную, боговдохновенную суть и становится животным.
Другой более мягкий вариант, который Достоевский уже говорил, — мораль без Бога может довести до самого страшного. Если мы посмотрим, как рождается гуманизм, то это, конечно, порождение христианства. В сущности, это перенесение свойств Бога на человека. Перенос возможен, потому что есть оператор — Христос, среднее звено, Бог и человек. В иудейской картине мира и в языческой это невозможно. Бог не может вместиться в человека. Эпоха Возрождения постепенно, еще не убирая Бога, начинает описывать человека теми свойствами, которыми традиционно описывается Бог. Например, всемогущество, безграничность возможностей и потенциала, управление миром, управление землей, царь земли и так далее.
Это адекватно, когда за этим стоит в качестве точки опоры Бог. Но следующее за Возрождением Новое время, которое собственно и является колыбелью гуманизма, понимает, что собственно Бог-то нам не нужен для того, чтобы человека таким образом рисовать. Мы можем просто, как Горький, сказать, «человек — это звучит гордо» без какого-либо Бога.
И на мой взгляд, если говорить о сегодняшнем дне, гуманизм возможен только тогда, когда у него есть твердое теологическое основание. Когда мы убираем Бога, как некоторую великую неподвижность, великий абсолют, то человек не выдерживает того теологического напряжения, которое в него инкорпорируется. И мы видим, что Запад в конечном итоге уже не удовлетворен человеком и хочет от человека освободиться. Оказывается, что тот высокий идеал, которым они его наделяют, — безграничность возможностей и мышления — ограничен очень конкретной вещью: телом.
Поэтому можно сначала половые признаки менять, потом в кибер-пространство переходить, где тела вообще не будет, и затем переходить уже к каким-то постчеловеческим сущностям. Поэтому та подрывная суть постгуманизма, которую мы сейчас наблюдаем на Западе, или трансгуманизма, она еще в гуманизме заложена как в постепенном отказе от богоподобия человека.
Если говорить о русском гуманизме, то мы от гуманизма отказываться не должны. Но это такой гуманизм, который человека делает не автономным, а стоящим на каком-то гораздо более величественном фоне, фоне божества. Если этот фон убрать, то мы совершенно логическим путем приходим туда, куда приходит Запад.
Если в гуманизм привнести христианские смыслы, богоданность, богообразность человека, понимать гуманизм в таком христианском, средневековом даже смысле, тогда мы можем предложить альтернативный и единственно возможный гуманизм. Человек — это гордо, потому что создан по образу и подобию Бога, а не потому что он человек. Гуманизм в чистом виде, гуманизм, отсеченный от теологического измерения, вырождается в трансгуманизм совершенно логически. Раз ты начал высвобождаться от Бога, значит в конечном итоге ты и от человека откажешься.
ИА Красная Весна: А не породит ли это еще более жаркие дискуссии не только со светскими людьми, но и представителями других конфессий? Может, акцент на человеке как творческом существе, созданном по образу и подобию Божию, человек как коллектив, имеющий в пределе космогонический масштаб, будет более мягкой точкой схода?
Никита Сюндюков: Тут очень интересный момент, Вы упомянули творчество. Действительно человек автономный, индивидуальный, он в конечном счете и себя теряет, потому что он не творит. Человек только тогда проявляет себя как личность, когда он может что-то сотворить, создать. Но создать он не может в вакууме. Ему нужна, как минимум, материя этого мира. Говоря о сегодняшнем дне, ему нужны другие люди. Они все создают условия для того, чтобы ты мог творить, без них ты бы никогда не сотворил. Без результатов чужого творчества, без средств, добытых предыдущими поколениями, без родителей, которые тебя обеспечили и воспитали. В этом отношении именно детерминированность тебя другими дает тебе свободу творчества.
И я как религиозный человек за всем этим удивительным пересечением фактов, которые в конечном счете порождают что-то совершенно невообразимое, а именно, свободу, которую невозможно скалькулировать, вижу (хоть это и нововременной термин) Великого архитектора, Бога. Но Вы говорите о коллективе, о «космогоническом масштабе». На мой взгляд, всё это либо вторые имена Бога, либо вторичные причины, которые относятся к причине более первичной. В ранее упомянутой «Философии хозяйства» С. Булгакова есть очень интересные на этот счет рассуждения.
ИА Красная Весна: На Ваш взгляд, в русской мысли тогда и сейчас осталась вера в творческие возможности человека?
Никита Сюндюков: Я думаю, что это последнее, что у нас остается для того, чтобы мы могли называть себя людьми. Поскольку здесь стоит угроза искусственного интеллекта. Если раньше машины ставили под вопрос о механическом труде и мы говорили, что машина ничего из свободного духа сотворить не может, то теперь у нас есть очередная угроза, нематериальная.
В каком-то футуристическом пределе по количественным параметрам он во всём будет лучше нас. Единственное, что мы можем ему предъявить, — это свобода творчества. А что такое свобода творчества? Это творение из ничего. Этого не было, а теперь стало, ничем предшествующим не детерминированное, никакими объективными факторами. Умение сотворить что-тот совершенно новое. И с точки зрения метафизики единственное, кто это может сделать, если опять же последовательно логически это раскрутить, является Бог.
Он ничем абсолютно не детерминирован. Человек детерминирован, он может вторичным образом это сделать. Если мы сохраняем возможность творить новое, не просто комбинируя то, что есть и всякий раз порождать новую мозаику, чем занимается искусственный интеллект, а реально новое, абсолютно ни с чем до этого не связанное, из пустоты, из ничего творить, тогда у нас сохраняется и надежда на то, что мы сохраним свое человеческое лицо, и сохраняется, если глубже думать, представление о человеке как о богосуществе, созданном по образу и подобию богоподобному.
Если мы откажем себе в этом творческом начале и признаем, что то, что творят роботы, это и есть высшее искусство и больше этого человек сотворить не может, если мы признаем, что творчество целиком определяется этим комбинированием, которое производит искусственный интеллект, то тогда мы должны в конечном счете признать себя предшествующим звеном эволюции.