Изменить цель и построить всю систему иначе

Передача «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 5 марта 2024 года
Анна Шафран: Сергей Ервандович, одна из нашумевших новостей этих дней — утечка переговоров немецких военных относительно подготовки удара по Крымскому мосту. Дальше — не унимается Макрон, который заявил, что НАТО готовится отправить свои вооруженные силы, войска, отряды, группы на территорию Украины. Ряд европейских политиков тут же стал отрекаться от такого рода заявлений, но Макрон неуклонен: он сделал еще одно заявление, сказал, что, мол, «каждое его слово выверено». А вот что это за цепь событий и как их интерпретировать, с Вашей точки зрения? Давайте сегодня об этом поговорим.
Сергей Кургинян: Давайте. Есть несколько аспектов этой проблемы, которые… я не скажу, не обсуждаются, но не находятся в фокусе рассмотрения. А мне кажется, что они заслуживают если не нахождения в фокусе, то по крайней мере приближения к этому фокусу.
У меня есть один хороший знакомый, старший родственник которого находился в советских спецслужбах, в том числе еще и сталинского периода. Он говорит, что когда после какой-то хирургической операции уже возрастной его родственник был перенесен в палату под наркозом, то он очнулся и понял, что находился в неконтролируемом состоянии — наркоз. Он оглядел палату (вставать ему было запрещено), встал и — внимание, я отвечаю за точность рассказа — выдрал (человек был сильный) все розетки, через которые могло идти прослушивание.
Конечно, это поведение не является образцом рациональности, правда? Но оно характеризует нечто более важное, чем рациональность, — вектор, понимаете? Вектор, систему ориентации. То есть если ты относишься к определенным ведомствам и что-нибудь неизбежно подписываешь типа «неразглашения», и если это серьезная эпоха, то ты десять раз подумаешь перед тем, как начать что-то обсуждать. Это первое. Данное правило тут было нарушено, это всем понятно.
Теперь второе. Что именно обсуждалось? Надо сказать, что во всех крупных доктринах и серьезных военных документах существует рассмотрение всех возможных действий против противника, недоброжелателя, проблемной страны. Поэтому если мы вскроем какие-нибудь совсекретные файлы, то мы найдем там планы ядерной атаки на Москву или чего-нибудь еще в таком духе — пострашнее того, что обсуждали эти странные господа. Но это носит характер «вполне возможно», «в неблагоприятном случае» и так далее. Это не носит характер «когда, чем и как навернуть». Это разные жанры. И это находится в документах с соответствующими грифами, которые можно раздобыть как вообще-то любой документ — всё зависит от мастерства разведки. Но это общие доктрины на случай «если»: может быть так, а может быть и так… То, что обсуждалось, никакого отношения к подобным «если» не имеет. Обсуждалось нечто вполне конкретное, осуществляемое в ходе данного конфликта — реального, а не в случае гипотетической ядерной войны.
Третье. Стиль, в котором это обсуждалось, — технологический, типа: «А куда ты привезешь ракету? А на чем ты ее доставишь? А где мы произведем? А сколько их надо?» Он чисто технологический.
Четвертое. Это где обсуждается одним из участников? Ну, не скажу, в Белоруссии, но ведь не у себя дома, а во время некой командировки, на территории государства, которое, всячески поддерживая выгодный для него формат отношения к конфликту России и Украины, тем не менее ну уж никак не находится на стороне «ястребов», поддерживающих Украину, правильно?
Следующее. Это всё где конкретно обсуждается? В гостиничном номере, как я понимаю. Значит, вы вообразите это: я, высокий офицер немецкой разведки, при полномочиях, действующий, подписавший соответствующие бумаги в обязательном порядке, приехав в командировку, не в посольстве своем и не где-нибудь, а в отеле, подключившись к чему-то, начинаю обсуждать чисто технологические проблемы того, по каким азимутам, когда, в какой день и так далее надо что-то делать.
С какого хрена, прошу прощения, это обсуждается на расстоянии, по телефону? Что так приспичило? Через пять минут надо нанести удар, и уже плевать на всё, какая связь: открытая, закрытая? Что за странный кинофильм, увидев который на экране, вы сказали бы, что уж слишком далеко от реальности?

Что происходит вообще с культурой секретности? Существует ли она? Если она существует, то что находится в мозгу у этих людей? Кто эти люди? Они же высшие офицеры — их не учили тому, как разговаривать на секретные темы? Они не получали инструкций? Они все, находясь в разных городах, напились до положения риз или нанюхались? Что знаменует собою неслыханная экстравагантность данного эпизода?
Это же не первый раз в истории сопровождения конфликта между Украиной и Россией (а на самом деле между Западом и Россией) нечто откуда-то утекает. И в Соединенных Штатах оно утекало, и где угодно. Какова реакция на это экстравагантное событие? Когда с американцами что-то произошло и у них нечто утекло — в большом количестве, и очень опасное, и секретное, — никто почти не обратил внимания. Максимум реакции — было: «Ну, бывает, дело житейское». Тут: «Если хочешь что-то сообщить русским, сообщи немцам». Значит, что у нас за странная дочка западного сообщества под названием «Дойчланд»? Как с ней себя ведут, как ее хлещут по щекам — и, собственно, за что? Что случилось?
Анна Шафран: Сергей Ервандович, тогда исходя из всей вот этой диспозиции, которую Вы сейчас очень подробно разъяснили, что же, получается, это было? Это неслучайный постановочный сюжет или что-то иное? Как понимать?
Сергей Кургинян: Я несколько раз говорил: я знаю, что такое Киссинджер или Бжезинский, я могу назвать еще десять-двенадцать фигур крупных действующих. Какая-нибудь Кондолиза Райс — я понимаю, что это такое. А кто такой Блинкен, я не понимаю. Это какие-то уже новые сорта рыб, плавающие в новых водах. Может, они вообще каждое утро нюхают наркотики, а может быть, они, в силу их специфической гендерности, склонны к избыточной болтливости…
Я не понимаю, что происходит. Я вижу, что «какая-то в державе» американской «гниль» — и не только в американской. Во всем Западе называли ее давно «постмодернизм» — сочетание распущенности и кровавости. Но если считать, что это естественно, значит, в западном сообществе люди при исполнении обязанностей (с обязанностями дополнительными — как-то: жесткое соблюдение секретности, необсуждение ничего в публичных местах даже на своей родной территории, а уж тем более на территории чужого и не до конца тебе подконтрольного государства) — если эти люди могут так себя вести, то это мелкое событие является микрокосмом, отражающим некий макрокосм. Значит, это всё допустимая распущенность, разболтанность, вседозволенность. Это первое.
А дальше начинается то, что характеризует любую интерпретацию — она многозначная. Я кандидат физико-математических наук и по первой профессии близко соотносился с группами академика Андрея Николаевича Тихонова, занимавшегося обратными задачами. У меня диссертация была по обратным интерпретационным задачам. Они всегда — всегда! — неоднозначны. Кто сказал, что этот чудик не находился в специальном состоянии, что он чем-нибудь себя не уколол, или не нанюхался, или не напился до положения риз? Но чтобы одновременно напились и нанюхались несколько человек, — тоже ведь странно. Эти люди должны были сказать: «Курт, подожди, прилетишь — обсудим».
Что, повторяю, приспичило? Почему надо в этом режиме всё это обсуждать? С точки зрения минимально серьезного отношения к происходящему это — провокация. Это провокация участников. Либо эти участники не в себе, либо они ведут сознательную игру. Вполне предполагая, что будет утечка, или даже участвуя (парадоксальная, очень эксцентричная версия) в создании этой утечки. Иначе я себе эту ситуацию, понимая, что представляет собой мир спецслужб, представить не могу.
Значит, кто-то с кем-то договорился, что нужно создать определенный эксцесс; они замаскировали этот эксцесс в небрежность, зная, что за эту небрежность они почему-то не будут отвечать до конца, и устроили это на соответствующей территории. Даже если предположить, что их записали — почему бы нам их не писать, собственно, в чем проблема, или китайским товарищам, или американским господам, или кому-то еще, — даже если писали, то записали-то это фуфло. Очень опасное, о многом говорящее, но — фуфло. Фуфло же не перестает быть фуфлом. У Галича в одной из песен это называлось «орать, как пастух на выпасе»:
А мне говорят:
— Ты что, — говорят, —
Орешь, как пастух на выпасе?!
А ну, — говорят,
— давай, — говорят,
Сиди, — говорят, — и не рыпайся!
Они орут не как пастухи на выпасе, а как пьяный сброд, нарушающий все возможные правила. Значит, либо это совсем пьяный сброд — и тогда есть одна опасность, либо это сознательная постановка — и тогда это другая опасность. Если это пьяный сброд, то этот пьяный сброд может всё!
Да, сброд может всё! Сброд вдвойне опасен тем, что он находится в состоянии вседозволенности.
Либо это постановка. Тогда эта постановка призвана ударить по Шольцу конкретно за что-то: за то или за другое, — и является частью композиции бундесвера, которому не нравится, что именно делает Шольц.
Далее примечателен поднятый визг. Этот визг означает, как относятся к Германии. Германия — страна, находящаяся под подозрением, фактически полуколониальная, в смысле — колония Соединенных Штатов, с соответствующими войсками Соединенных Штатов, с соответствующей постоянной цензурой («вы во всем виноваты и будете каяться вечно»), с соответствующим раздавленным населением. И в качестве таковой страны она всё время говорит: «Я же не могу быть на переднем краю, вы же мне сами не разрешите оказаться на переднем краю. Или что, уже можно?»
Однажды в 1992 году на довольно высоком международном симпозиуме, куда меня привезли как советника Хасбулатова, я должен был говорить с одной из женщин-политиков, занимавшей высокое место в немецком парламенте. Я ей говорю: «О чем, собственно, тут идет разговор? О том, что Атлантический океан должен стать внутренним немецким морем? Вы об этом?» Она, как в плохом и с элементами эротики фильме каких-нибудь там 1940-х годов, вот так закрылась и сказала: «Найн, найн, найн! Зачем Вы мне это говорите? Ну зачем? Зачем?.. Нам нельзя! Мы и так всё время об этом думаем».
Анна Шафран: Сергей Ервандович, на Германии мы с Вами остановились, с одной стороны. А с другой стороны, еще сразу же хочется мостик пробросить в сторону Франции…
Сергей Кургинян: Немцы всё время смотрят и говорят: «А что, уже можно? Зиговать в Италии можно — нам тоже можно?» Карлсон только что уже сказал в беседе с Фридманом: «Что такое нацизм? Это чисто немецкое явление». Ничего себе — «чисто немецкое явление»! Да? Это что еще за приколы? «Чисто немецкое»… Да что там Муссолини, да что там Франко, — это всё хорошие ребята, в сущности! Какие-то, как Пиночет, — «наши сукины дети» и всё. Ну вот, значит, немцы: «Уже можно или еще нельзя? Потому что мы всё время об этом думаем», — как сказала мне та представительница немецкого парламента (она потом странным образом выпрыгнула в окно).
Значит, тогда вопрос заключается в том, что кому можно и что нельзя. «Вы хотите, чтобы мы активнее участвовали? Так уже можно? А вы нас прессовали десятилетиями, нам не так просто опомниться. А если нам не так просто опомниться, а мы хотим чего-то, то вы нам что за это дадите?» Это некий торг. «А не дадите — так всё будет течь. И тогда вы на нас не рассчитывайте».
Что было главной ставкой постсоветской России, главной ставкой в международной игре, и что остается, в сущности, такой же ставкой для тех, кто не отказался полностью от концепции вхождения России в западный мир? (А таких полно среди действующей российской власти.) Что было главной ставкой? Взаимодействие между Россией и Германией. Говорилось «Европа», «Запад», — имелось в виду «Германия, главная индустриальная страна». Это было главной ставкой — российско-германские отношения. За чем американцы следили, как за опасностью большей, чем коммунистический Китай? За российско-германскими отношениями. Что они разрушили? Российско-германские отношения. Что такое этот эпизод? Это эскалация данного обстоятельства.
И тут я коротко хочу сказать, что стихотворение Константина Симонова «Если дорог тебе твой дом…» (еще его называют «Убей немца») является, с моей точки зрения, стихотворением небезусловным, раз; два — категорически необходимым: в условиях чудовищной мировой войны, войны на уничтожение, и гибели миллионов и миллионов людей такие произведения нужны; три — адресованной советскому обществу. Апелляция к нему сегодня, в условиях, когда произошел телефонный эксцесс с немецкими военными, может быть, и возможна, но лично мне представляется избыточной.
Поэтому вопрос о том, как к этому отнестись, тоже очень неоднозначен. К этому можно отнестись двояко. С одной стороны, надо понимать — это озвученное очень опасно. Это часть подготовки Западом войны, и к этому надо отнестись так. С другой стороны, нужно относиться к этому, уж если оперировать советским опытом, так, как сказал Сталин: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». И если существует сегодня Германия, то есть один человек, благодаря которому она существует, как и Израиль, — это Иосиф Виссарионович Сталин, который сохранил право немцев на национальное государство вопреки тому, чего добивались Рузвельт и прежде всего Черчилль.
Это отдельный вопрос: с кем и как строить отношения, и насколько легко их надо то избыточно эскалировать, то избыточно демонизировать. Спокойствие — черта подготовки к грядущим трагическим событиям, по отношению к которым надо быть серьезными.
Теперь Макрон. Это часть всё того же: это проверка общественного мнения и разминка темы будущей войны между НАТО и Россией. Как мы к этому должны отнестись? Как мы должны на это отреагировать? Сколько еще времени нас будут проверять на вшивость? Потому что нас всё время проверяют.

Отвечаю. Есть реакции тактические (военные), дипломатические и стратегические. Тактическая реакция одна — побеждать и побеждать, и всё больше и больше укреплять обороноспособность. Дипломатическая одна: сколько можно еще отжать из этих красных линий — отжимать. И в этом смысле произошедшее событие есть для наших дипломатов часть скандала, который, возможно, даст нам возможность сколько-то времени еще отжимать красные линии. Стратегически — нам нужна другая обороноспособность, другой потенциал, чтобы никто не сунулся.
Граждане России, прошу прощения, вам никто не запрещает «красиво жить»! И даже хотят, чтобы вы жили максимально красиво. Но в словосочетании «красиво жить» есть слово «жить». Если разница в том, чтобы красиво жить, просто жить и умереть, то лучше просто жить, пусть скромно, чем умирать, правда? А если разница в том, чтобы красиво жить или некрасиво, — ну конечно, хочется красиво. Но Макрон говорит уже о том, что дальнейший разворот будет несовместим с такой жизнью.
Далее, они всё время говорили, что война на Украине, в которой они не участвуют, — это так называемая средняя война, в которой как бы меряются возможностями. Реально — это эксперимент, после которого можно сказать: «А вот на самом деле у стран такие-то потенциалы, и в соответствии с ними мы так-то делим зоны влияния и всё остальное».
Теперь они говорят другое. Это кто-то услышал? Они не говорят о том, что тут будут происходить некие замеры, по результатам которых будет то или иное мирное соглашение. Они говорят, что это экзистенциальная война, которую они не могут проиграть. Они не могут оказаться в ситуации, когда наши войска доблестно будут развивать свои успехи, украинцы провалятся, они скажут: «Ну давайте заключим соглашение, поделим территорию…» Они, по крайней мере в этой части, говорят: «Это экзистенциальная война, мы ее проиграть не можем. И если ее проиграют украинцы, начнем действовать мы».
Это ничего не напоминает? Ну как? Грэм Грин, «Тихий американец», события во Вьетнаме. Была национально-освободительная война между вьетнамцами и французами, Дьенбьенфу и всё прочее. Дальше туда влезло ЦРУ. Дальше ЦРУ начало делать то, се, пятое, десятое: маленький экспедиционный корпус, большой экспедиционный корпус и так далее — произошла эскалация.
Значит, мы должны быть готовы к тому, что за этими мелкими событиями, порою странными, идет нечто типа проработки возможности превращения этого конфликта в очевидный конфликт с участием американцев и НАТО. А они разве не участвуют?
Теперь вопрос о дальнобойности всех этих ракет. Всё начиналось с того, что «мы будем им поставлять только бронежилеты и каски, а то лучше вещмешки и спальные мешки». А теперь обсуждается, на пятьсот километров ракеты поставлять, на тысячу или на сколько. А с каких изделий эти ракеты запускаются? Если они запускаются с воздуха, то кто определит, кто сидит в этом самолете? По факту сбития? Ну, тогда объявят этого человека добровольцем, кем-то еще, документы будут уничтожены.
Итак, эскалация будет происходить. Они готовят к ней население. Их разминки на тему о том, что будут какие-то мирные переговоры… — мирные переговоры ведутся, когда не говорят об экзистенциальном конфликте! В экзистенциальном конфликте нет мирных переговоров, они отсутствуют. Нельзя одновременно говорить об экзистенциальном конфликте и о мирных переговорах.
Слава богу, наша дипломатия перестала об этом говорить. Говорила только на очень ранних этапах. Но здесь-то возникает вопрос не только о дипломатии. К чему готовимся? В чем завтрашний день? Сколько лет предстоит воевать? Как эта война изменит облик страны? И будет ли она его менять, готовы ли мы к этому? Понимаем ли мы, что нельзя изменить просто облик той страны, которую готовили к другому? Нужно построить всю систему иначе, изменив перед этим стратегическое целеполагание.
Система — это совокупность элементов, объединенных связями и целью. Наличие связей и целей отличает систему от груды элементов. Страна — это система: если у нее есть другая цель, то будут меняться и элементы, и связи. Потому что иначе нельзя реализовывать на практике другую стратегическую цель.
В чем эта цель? Насколько мы видим, та сторона распоясалась и обнаглела до беспредела. И что, собственно, мы хотим сделать ответом на это? Почему они себе это позволяют? Почему они никогда прежде не стали бы себе позволять подобное: эту разболтанность, наглость и цинизм беспредельный? Вот эту наглость, главное, которая существует во всем, что мы обсуждаем: и в Макроне с его заявлениями, и в немцах, и во многом другом. Откуда это всё?
А не стоит ли посмотреть на самих себя? И не на громкие заявления по поводу ядерной войны — никому она не нужна, — а на такие действия, при которых люди задумываются о главном — а с кем, собственно говоря, они имеют дело: со вчерашней попрошайкой и полуколониальной проигравшей несчастной Россией или с великим государством, которое становится на другой путь всерьез, без дураков, обладает другим целеполаганием и говорит по существу о том, что и советское, и имперское наследие (почему Heritage есть в Америке и не может быть здесь?) является для нас не просто ценимым фактором, а фактором нашего стратегического будущего?
Вот если это всё будет развернуто спокойно, настойчиво, твердо, мощно и доказательно, тогда, возможно, не сунутся.
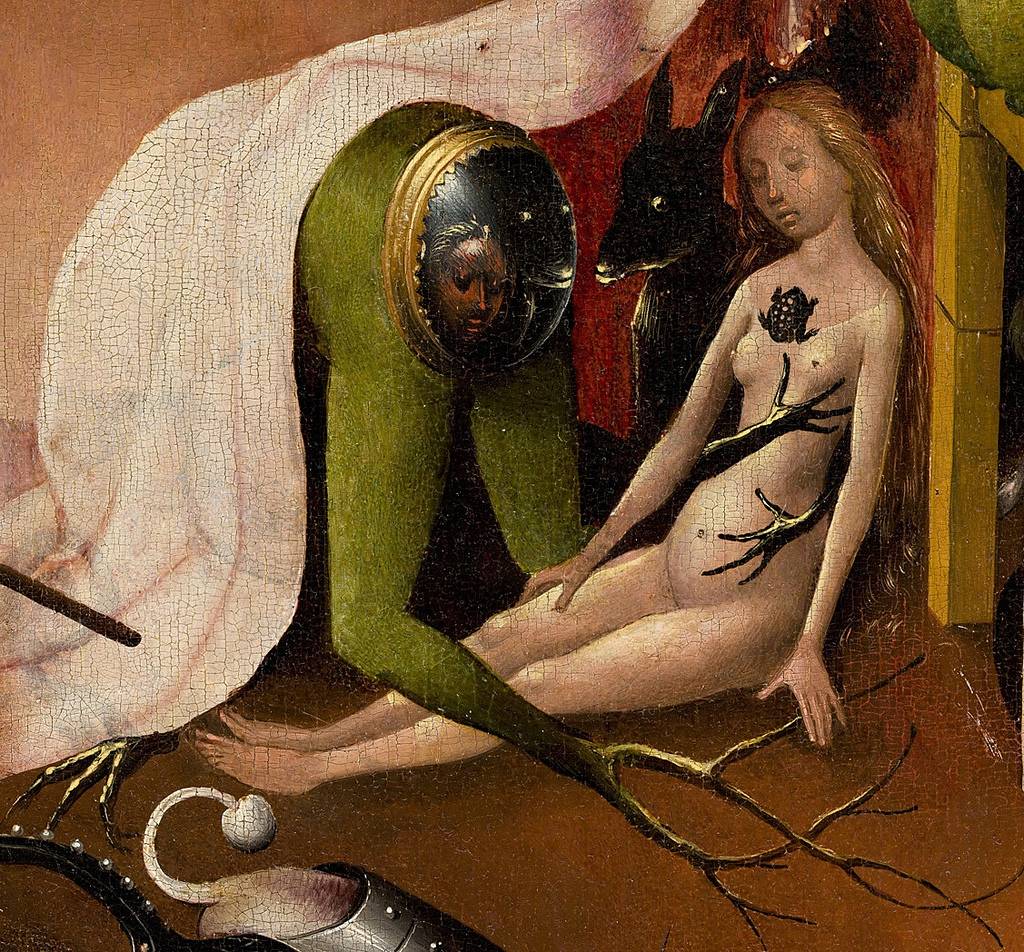
Анна Шафран: Сергей Ервандович, но есть такой вариант. Не сунутся, как Вы сказали сейчас, с одной стороны. С другой стороны, Вы же говорили сейчас об экзистенциальном конфликте, который, в общем-то, подразумевает собою отсутствие этой возможности. Либо нам в принципе суждено и предписано именно в таком состоянии пребывать до скончания века? Вот вроде бы взаимоисключающие варианты — а как правильно тогда смотреть на вещи?
Сергей Кургинян: Конфликт экзистенциального типа происходит между чем и чем? Между победителем и побежденным. Для них Российская Федерация — это ублюдочное, полуколониальное государство, лижущее им сапоги, являющееся продуктом поражения в холодной войне и внутренне пораженческим как по типу элиты, так и по типу существования — не имеющее стратегической самости.
Нельзя в новой ситуации только декларировать, что мы другие. Это другое должно быть всюду — всюду, в каждой молекуле бытия. Пусть оно будет разворачиваться постепенно в культуре, в языке, в лингвемах, в семантике, в семиотике, в образе, — во всем. Нам пора, с моей точки зрения, осторожно и без перегиба отказываться от избыточно негативного отношения к советскому наследию, которое сочетается с постоянными цитатами то из каких-то писем Сталина нашим директорам заводов, то из патриотических стихов. На что с той стороны ухмыляются и говорят: «Вспомнила бабка, как девкой была».
А покажите, что это не бабка! Докажите это не на языке угроз применения ядерного оружия, а на языке политической стратегии и концепции, на изменении самообраза. Предъявите противнику тот образ, в котором эта экзистенциальная война станет для него слишком издержечной. И не только образ, связанный с наличием у нас тяжелого ядерного оружия (что, конечно, имеет решающее значение), но и образ всего остального. Всего остального, полностью и до конца. Тогда, может быть, твердость образа и понимание, что имеют дело с чем-то уже совсем другим, чем то, что долго вело себя избыточно комплиментарно, скажем мягко, а, в общем-то, по-колониальному, — изменят отношение к происходящему.
Они поймут, что они имеют дело по факту с той великой страной, с которой, как считалось и как они уверены до сих пор, они покончили. Очень трудно убеждаться в том, что эта страна снова является той, которой они боялись, — они не хотят этого. Надо переломить инерцию пренебрежения, презрения, понимания вторичности и, в сущности, отношения ко всему этому как к бунтующей колонии, как к Трансваалю относились англичане во время англо-бурской войны. Вот это отношение надо решительно и спокойно переломить. Нельзя сочетать элементы, реликты прежнего вхожденческого языка, прежних концепций, прежних образов — сочетать это с адресациями к советскому наследию, когда надо, и отказу от него, когда хочется отказаться, — и из всего этого слепить страну, по которой не нанесут такой удар, после которого придется отвечать, ставя под вопрос существование цивилизации.
«Нам такой хоккей не нужен», как говорил когда-то один советский комментатор. Нам такой «хоккей» не нужен, нам нужен другой, но тогда ясно надо понимать, каков он, этот «другой». И сейчас эти мелкие, в общем-то, события: болтовня по телефонам из-за границы, легкомысленные заявления Макрона и всё прочее — они должны быть нами восприняты спокойно и с предельной серьезностью, потому что это разминка катастрофического варианта. Для того чтобы прервать эту разминку, мало засветок, которые нужны, мало информационных скандалов. Нужно нечто неизмеримо большее и относящееся, прошу прощения, чуть ли не к области политической философии и метафизики.
Другую Россию они должны увидеть и пересчитать всё, что они делают. Вот знаете, есть всякие модные новые центры: всякие там институты хаоса, хаосо-сложности и так далее. Но работает — это должны понять те, кто этим занимается, не исключено, что они этого не понимают, а я это знаю по старым временам, — всегда работает RAND (организация, признанная нежелательной в РФ), работает RAND Corporation (организация, признанная нежелательной в РФ). Всё! А что делает RAND Corporation (организация, признанная нежелательной в РФ)? Она, как только видит стратегическую новизну, возвращается назад и всё пересчитывает. Заставьте вернуться назад!
Вот пусть снова пересчитывают, запустите этот механизм пересчета. Это сейчас вопрос жизни и смерти для нас и для человечества.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, огромное Вам спасибо за эту беседу.
















