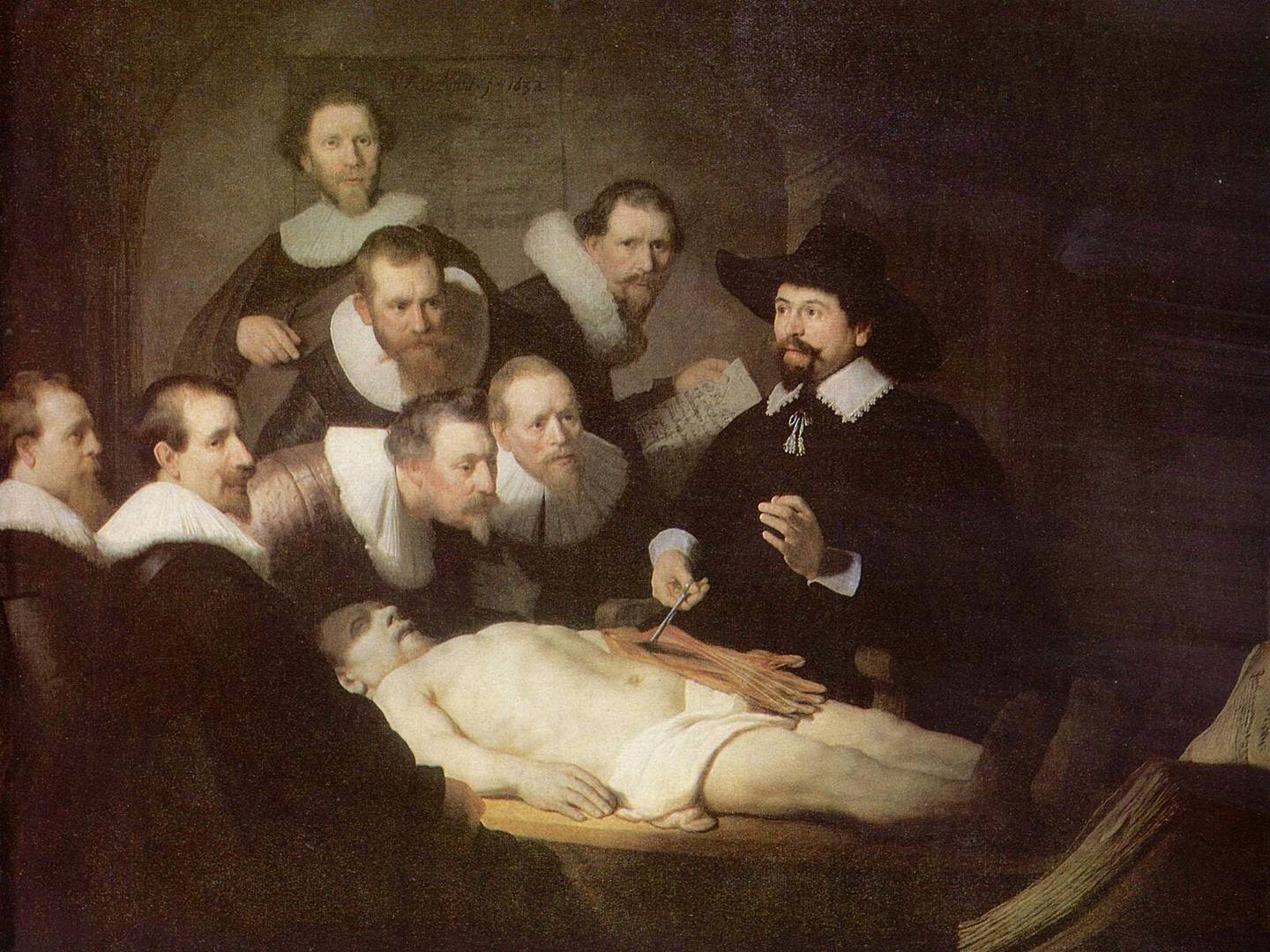Наш путь (окончание — 13)
Итак, если экономика — это та сфера человеческой жизни, которая наиболее близка к борьбе за средства существования, если laissez-faire — это то, что делает экономику наиболее близкой к борьбе за средства существования, и если капитализм — это то, что экономизирует нашу жизнь и окончательно превращает в борьбу за средства существования уже не только экономику, но и всё остальное, то капитализм — в этом его понимании — имеет инволюционное значение. И войну ему можно объявить именно в силу того, что он имеет это значение. А осуществляя инволюцию, он неизбежно будет порождать (низводя всё на свете до грызни за средства существования или до воли к власти) старые зловещие системы, в которых несвобода приобретает особо концентрированный характер. То есть фашизм.
Если капитализм — это инволюция, если он возвращает и усугубляет все дочеловеческое, грызущееся, — то он не может не находиться в антагонизме с человеческим неприродным началом. То есть он не может не быть дегуманизатором. И нетрудно представить себе, что всё значение капитализма состоит в том, чтобы довести дегуманизацию до беспрецедентно высокого уровня.
Разве не об этом писал Достоевский во многих своих работах, включая «Зимние заметки о летних впечатлениях»? Ах, да, забыл, Достоевский — это монархист, почвенник, реакционер. Но Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» пишут, что буржуазия (цитирую) «не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». Что «в ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли...
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям».
Все, что я процитировал, представляет собой прямое и очевидное обвинение буржуазии в том, что она является дегуманизатором и что ее господство не совместимо с человечностью.
Далее говорится о том, что буржуазия смогла освободить грубую силу, проявление которой в средние века вызывает восхищение у реакционеров, от лени и неподвижности, которая была свойственна добуржуазной грубой силе. Теперь эта грубая сила является тем самым грубой силой без тормозов.
Далее говорится, что эта грубая сила постоянно развивает орудия производства, что она уже создала менее чем за столетие более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения вместе взятые. То есть что дегуманизирующая деятельность буржуазии сочетается с ее деятельностью по фантастическому развитию производительных сил. (Но теперь-то задача поставлена по свертыванию этих производительных сил, и в этом — новизна реальности.)
Потом говорится, что это развитие производительных сил порождает кризисы, войны. Что, преодолевая всё это губительное, буржуазия только наращивает всё, что чуть позже приведет к эскалации того, что она преодолела.
А дальше указывается на то, в чем, собственно, состоит спасение от губительнейшего буржуазного зла. Оно в том, что (цитирую) «в той же самой степени, в какой развивается буржуазия, т. е. капитал, развивается и пролетариат, класс современных рабочих». Его-то авторы Манифеста и считают единственным спасителем человечества от гибели, которую с собой несет: а) развитие самой буржуазии; б) развитие всего того, что эта буржуазия развивает. Причем развивает, как показали авторы, самым сокрушительным образом.
Теперь давайте сопоставим всё мною процитированное и явно состоящее из проклятий в адрес буржуазии, дополняемых констатацией того, что она стремительно развивает производительные силы, — с низведением Истории к борьбе классов, то есть к грызне за средства существования. Такое низведение осуществляли напрямую Спенсер и его последователи, а более или менее косвенно — Гоббс, Мальтус и все те, кто восхвалял буржуазный порядок как способ существования, в котором наконец-то всё оказалось подчинено принципу грызни за средства существования, то есть природному началу, каковым для тех, кто его воспевает, является оргия всепожирания.
Кто-то восхваляет эту оргию с маленькими оговорками. А кто-то кричит, что ей нельзя противостоять, ибо тогда рухнет равновесие. Но за исключением Маркса и его последователей все остальные любители сводить Историю к борьбе за средства существования восхваляют буржуазию и требуют всё большего простора для утверждаемого ею низведения всего на свете к борьбе за средства существования.
Таким образом, Маркс и все те, от кого он отмежевывается, находятся на двух разных полюсах. И Маркс не мог этого не понимать. Как не мог он не понимать того, что, во-первых, существует не в безвоздушном пространстве и должен делить статус властителя умов со Спенсером и многими другими. Что, во-вторых, ему всё, что даже слегка попахивает утверждением принципа борьбы за средства существования как главного двигателя истории, предъявят в качестве обвинения анархисты, народники и другие союзники по Первому Интернационалу. И так далее.
Герберт Спенсер заявлял: что универсальный закон природы состоит в том, что существо, недостаточно энергичное для того, чтобы бороться за свое существование, должно погибнуть. Вот ведь как! Универсальный закон природы! А человек ему подчиняется? Ведь каждый, кто согласится, что человек этому закону всецело подчиняется, — уже дегуманизатор.
Нам скажут, что классовая борьба — это не закон природы, а некий закон социума, близкий по своему содержанию к закону природы (и там, и там грызня за средства существования). И что человек, отчасти не подчиняясь законам природы, в этой своей неприродной части подчиняется социальным законам, которые, увы, близки к законам природы. Ибо в основе их — классовая борьба, то есть грызня за средства существования. И что, будучи в существенной степени существом социальным, а не природным, человек подчиняется социальным законам, они же — социальная необходимость. А будучи всё же отчасти существом природным, он подчиняется отчасти же и природным законам. Они же — природная необходимость. В любом случае, человек подчиняется двум необходимостям — природной и социальной, которые, хотя и вступают в противоречие друг с другом, но одновременно связаны между собой общим началом пожирания, оно же — борьба за средства существования, оно же — экспансия и конфликт экспансионирующих сущностей.
Но как всё это может сочетаться с основополагающей идеей, сформулированной Энгельсом в «Анти-Дюринге», смысл которой в том, что коммунизм (или социализм) свободен от всего, что ранее навязывалось людям природой или историей. Всё, (цитирую) «навязанное свыше природой и историей», приобретает теперь совсем иной характер. То есть оно прекращает быть необходимостью вообще. А значит, переход к социализму — это скачок из царства необходимости в царство свободы.
Из царства необходимости «в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Но если скачок из царства необходимости в царство свободы осуществлен, значит, две эти необходимости — и природная, и социальная — снимаются. И в этом — масштаб. Это и есть рай на земле. Потому что рай есть место свободы. Царство свободы!
Так в чем идеал? В построении царства свободы?
Или в гармонизации двух необходимостей — природной и социальной?
Или же в превращении двух независимостей в одну «лесефэрическую», основанную на сдерживаемом или саморегулирующемся взаимопожирании, оно же — борьба за средства существования?
Немецкий естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель родился в 1834 году и умер в 1919 году, то есть он был младшим современником Маркса. Вначале Геккель выступает как естествоиспытатель, занимающийся морским планктоном, радиоляриями и медузами. Кстати, радиолярии — это довольно специальная тема. Карлу Густаву Юнгу, крупнейшему немецко-швейцарскому психологу и философу, в одном из особых его снов, выражающих, как он считал, некое глубинное содержание, явилась огромная радиолярия как что-то, проблематизирующее человечность как таковую. Но я не думаю, что Геккель шел так далеко в этом направлении. По крайней мере, это неочевидно.
А вот то, что он шел далеко в других направлениях, — очевидно. Потому что очень скоро, еще занимаясь (причем талантливо) разного рода радиоляриями, медузами и т. д., Геккель начал заниматься и человеком. А также доводить до конца в дарвиновской теории то, что Дарвин категорически не хотел доводить до конца. То есть изымать из дарвинизма дарвиновские социальные инстинкты любви и взаимопомощи.
В 1874 году, за 9 лет до смерти Маркса, Геккель издал работу «Антропогения, или история развития человека». Маркс не мог не читать этой работы. А вскоре после смерти Маркса Геккель окончательно переходит от науки — к философии, от планктонов и радиолярий — к человеку. Он начинает заниматься только развитием философских аспектов эволюционной теории. Более того, он создает — фактически в пику марксизму — и свой «монизм» как научно-философскую теорию, призванную заменить религию, и «Лигу монистов» как нечто, противостоящее Первому и Второму Интернационалу.
Книги Геккеля «Мировые загадки» и «Чудо жизни» — это новое слово в том, что касается освобождения дарвиновской эволюции от всего, что связано с социальными, эволюционно-обусловленными инстинктами любви и взаимопомощи, которые являются основой дарвинизма как такового. Геккель освобождает дарвинизм от гуманизма.
И теоретики классовой борьбы освобождают эту борьбу от гуманизма.
А Маркс — это гуманизм.
Капитализм дегуманизирует те общества, которые сочетали идею гуманизма и идею господства в тех или иных вариантах. Ницше растаптывает гуманизм, прославляя волю к власти. И всё это есть нескончаемый гимн разного рода пожираниям, осуществляемым в борьбе за средства существования на социальном и природном этажах, сливающихся воедино.
А у Ницше так и вообще — речь идет о гимне пожиранию как таковому. То есть о невозможности для человека поставить хоть что-то выше его самого, а значит, о необходимости для человека, став человеком, всё свести к воле к власти, то есть не только легитимировать, но и восславить в виде того высшего, что только и возможно по ту сторону так называемой смерти бога, — Его Величество пожирание в социальном и природном варианте, с желательным превращением этих двух пожираний в одно на основе поклонения пожиранию природному. Которое в этом варианте становится Пожиранием с большой буквы.
И как во всё это антигуманистическо-пожирательное встраивается марксизм вообще и его классовое содержание, которое, конечно же, существует? Изъять-то это классовое содержание нельзя. Но и сблизить его, хоть в минимальной степени, со всем, что связано с иным классовым содержанием, излагаемым Платоном и Аристотелем, Гоббсом и Макиавелли, Мальтусом, Тьерри, Минье, Гизо, Тьером, Спенсером, Ницше, Геккелем и другими, — тоже нельзя.
Ключевым вопросом здесь, конечно же, является вопрос о смысле. А он, по определению, носит ненаучный характер, коль скоро надо говорить о той классической науке, которая чурается смысловой темы и утверждает, что единственное, чем она занята, — это истина. Такое утверждение вообще сомнительно. Эту сомнительность нам еще придется многократно обсуждать. Но она уже совсем сомнительна, если мы обсуждаем марксизм и Маркса.
Предлагаю собравшимся отнестись как можно более внимательно к этой моей мысли. Новый гуманизм Маркса, новый марксистско-ленинский гуманизм отличается от всего того гуманистического, что так же, как и марксизм, придает решающее значение классам и классовой борьбе, только тем, что Маркс и его последователи,
признавая факт борьбы людей за существование, то есть факт классовой борьбы,
придавая этому факту если не всеобъемлющее, то очень и очень важное значение,
выражая сожаление по поводу того, что борьба за существование между людьми может принимать еще более отвратительные формы, нежели борьба за существование в дочеловеческом природном мире, настаивают на том, что у этой борьбы есть высший смысл. А значит, есть высший смысл и у Истории. Это — Маркс!
Всякий, кто будет утверждать, что марксистская борьба за существование не имеет высшего смысла, лжет! Ибо смысла нет для Геккеля, Тьерри, Гизо, Минье, Спенсера и т. д. А для Маркса смысл стоит в центре. Либо борьба за существование и История имеют высший смысл, либо они его не имеют. Если они его имеют — это Маркс, если они его не имеют — это апологетика буржуазной грызни. Как можно человека, который наиболее яростно ненавидел буржуазию, приравнять к апологетам этой грызни?
Именно то, что действительный марксизм никогда не откажется от отстаивания данного принципа смысла, вызывает неслыханную ярость у ученых, готовых сколько угодно преклоняться перед Марксом, лишь бы только был изгнан из марксизма этот самый высший смысл, будь он трижды неладен. Тот высший смысл, который мы ввели в название своей Школы.
Но самые умные из тех, кто так преклоняется перед марксизмом, понимают, что это сделать невозможно. Нельзя изгнать из марксизма высший смысл. И именно этим объясняется, например, особое отношение Карла Поппера к Марксу. Ведь он о Марксе говорит совсем не так, как о Гегеле или о ком-либо еще. Он говорит о Марксе так, что порою возникает ощущение, что ведется оперативная беседа с живым господином Марксом, которому предлагают: «Слушай, ты только откажись от этого высшего смысла — и мы всё признаем. Дадим Нобелевскую премию. Дадим миллиард на счет, семь передач в неделю в прайм-тайм. Только откажись от этих чертовых высших смыслов!» Вот тон Поппера. Поверьте, я не шучу. Всё обстоит именно так. И в этом «именно так» наличествует нечто абсолютно принципиальное для нашего начинания и даже для названия нашего начинания! Школа высших смыслов — это школа, в которой категорически отказываются освободить марксизм от высших смыслов. И напротив, намерены как можно прочнее соединять одно с другим.
Для Маркса и действительных марксистов-ленинцев (одним из которых был Сталин) невероятно унизительная, отвратительная, оскорбительная борьба людей за средства существования (она же — классовая борьба), эта оргия грызни, во многом более отвратительная, чем природное всепожирание, имеет высший смысл. Она не унижает человека и его достоинство. Она возвышает человека. И в итоге возводит его на новую ступень. Ибо у нее есть цель, которая неразрывно связана с этим высшим смыслом. И эта цель — коммунизм. То есть прекращение мерзости борьбы и за средства существования, и за отдельное существование вообще — однажды и во веки веков. То есть навсегда.
В этом, конечно, есть многое от христианства. В каком-то смысле это более христианский подход, нежели тот, который основан на высказываниях ряда церковных иерархов. Я имею в виду высказывания покойного Василия Родзянко, епископа Сан-Францисского и Калифорнийского, утверждавшего, что «древо познания — это сорняк в райском саду». Я ссылаюсь здесь на книгу священника Сергия Соколова, работавшего с Родзянко, являвшегося ближайшим его единомышленником. Соколов прямо указывает (цитирую): «...он [Родзянко] говорил о том, что древо познания — это сорняк в райском саду». Далее Соколов сообщает, что Родзянко изменил свое мнение, но это, к сожалению, не было отражено во втором посмертном издании его труда «Теория распада Вселенной и вера отцов» (то есть это не стало общественно признанным фактом; это некие личные собеседования Родзянко и Соколова).
Впрочем, предположим даже, что это всё так. Не в Родзянко дело. И не в других более крупных фигурах, явно или косвенно утверждавших нечто сходное. Дело в отношении к Истории и ее смыслу. Одни упрекают или восхваляют Маркса за то, что ему вообще были безразличны высшие смыслы.
Между тем, Ленин настаивал на том, что (цитирую) «главное в учении Маркса, это — выяснение всемирно-исторической роли пролетариата как создателя социалистического общества».
Никто, кроме наших карго-марксистов и антимарксистских пропагандистов (а это именно две совместно действующие силы), не решится отрицать, что у Маркса всё было подчинено этой всемирно-исторической роли пролетариата, она же — всемирно-историческая миссия пролетариата.
Мне даже не хочется ломиться в открытую дверь. Но приходится. Потому что мы живем в особое время, когда марксизм и проклинают, и прославляют, но при этом самым вопиющим образом ничего не хотят о нем знать. Подчеркиваю, именно ничего!
Прославляющие марксизм не хотят не только напрягать свой разум и чувства для того, чтобы понять, что же именно представлял собой марксизм. Они не хотят обременять себя даже элементарными сведениями по поводу марксизма. Только отрицая необходимость в подобных сведениях, превращая обсуждение Маркса и марксизма в дикарский танец на тему о классовой борьбе, можно не замечать, насколько Маркса интересует не эта борьба сама по себе, а ее мессианская всемирно-историческая роль, ее мессианский всемирно-исторический смысл. Он на этом сфокусирован. Насколько мессианским, по сути, является его представление о пролетариате, чью всемирно-историческую миссию он постоянно обсуждает, подчиняя этому обсуждению и свои исследования закона о прибавочной стоимости, и свои исследования, посвященные проблеме осознания пролетариатом своей всемирно-исторической миссии и роли партии особого типа в подобном осознании.
Но Маркс всего лишь настаивает на том, что осознание пролетариатом его всемирно-исторической миссии абсолютно необходимо и может состояться, только если оформится партия нового типа. Я говорю здесь «всего лишь», потому что Ленин всё подчиняет этому партийному моменту. Причем оказывается — и мы это уже обсуждали, — что партия должна быть не группой интеллигентов, которые что-то расскажут пролетариату, а суперсплоченным отрядом новых суперинтеллектуалов, готовых сражаться во имя осуществления некоей всемирно-исторической миссии. И во имя осуществления этой миссии готовых жертвенно привносить сознание всемирно-исторической роли в пролетарские массы. Которые, увы, сами по себе совершенно не хотят ни осознавать эту всемирно-историческую роль, ни проникаться ее значимостью, ни подчинять осуществлению этой роли свое существование.
Я ничего не преувеличиваю, утверждая, что Ленин фактически превращает тезис Маркса о категорической необходимости новой партии для того, чтобы пролетариат осознал свою роль, вдохновился этой ролью и так далее, — в особую партийную миссию. Адекватное классовое сознание не может возникнуть стихийно — стихийное осознание пролетариатом своей роли обязательно окажется ошибочным. Рабочий класс не может сам спонтанно осуществить свою миссию. Он находится в спячке. Партия должна пробудить его от этой самодовольной спячки. Да-да, именно пробудить.
Ленин очень далеко идет, сдвигая проблему соотношения между классом и партией в сторону партии. У Ленина партия бесконечно любит пролетариат как то единственное, что может осуществить всемирно-историческую миссию. И одновременно бесконечно ненавидит пролетариат за то, что он эту миссию не хочет осуществлять.
Такие исследователи, как Славой Жижек, совершенно справедливо говорят о том, что партия у Ленина — это то же самое, что бог для религиозного человека или психоаналитик для человека, нуждающегося в психологической помощи. Жижек пишет: «Почему бы не связать эти два внешних положения (Партии по отношению к рабочему классу, аналитика в психоаналитическом лечении) с третьим — опытом божественного Реального? Во всех трех случаях мы имеем дело с одной и той же невозможностью, свидетельствующей о материалистическом препятствии: верующий не может «открыть Бога в себе» посредством погружения в себя, спонтанного осознания собственного Я — Бог должен вмешаться извне, нарушить наше равновесие; рабочий класс не может спонтанно осуществить свою историческую миссию — Партия должна вмешаться извне, пробудить его от самодовольной спячки; пациент/аналитик не может сам себя анализировать — в отличие от гностического погружения в себя в психоанализе нет никакого самоанализа, анализ возможен только при условии существования чужеродного ядра. <...> Потребность в Партии связана с тем, что рабочий класс никогда не бывает «вполне самим собой».
Можно добавить к этому: и всегда боится быть самим собой.
Ну, а теперь зададимся вопросом: а кем бы был Маркс без Ленина?
Он был бы выдающимся ученым. Наверное, у него было бы достаточно много последователей, в том числе и не чуждых политике. Может быть, их было бы не меньше, чем у какого-нибудь Геккеля, создавшего «Лигу монистов». Но ни о каком особом значении Маркса в мире не было бы и речи, если бы не было Ленина. Поэтому мы можем говорить только о единстве Маркса (если кому-то нужно — Маркса и Энгельса, я не против) и Ленина.
Причем теперь уже всем понятно, насколько идиотской была игра в противопоставление Ленина Сталину. Неважно, идет ли речь об игре в противопоставление хорошего Ленина плохому Сталину или об игре в противопоставление хорошего Сталина плохому Ленину. Это в любом случае манипулятивная игра.
Осознание этой игры и выход за ее рамки немедленно приводит, во-первых, к осознанию единства Маркса, Ленина, Сталина (сколько бы противоречивым это единство ни было). И во-вторых, к осознанию особой роли Ленина.
И уж в этом-то случае никуда не деться от всемирно-исторической миссии, всемирно-исторического смысла, суперособой роли суперпартии во всем этом начинании. Нет Ленина без всего этого. И нет исторически значимого марксизма без Ленина. Между тем, в конце своей жизни Ленин всё больше думает о том, как усилить значение партии. Потому что ему чем дальше, тем больше нужно накалять именно смысловое значение в том начинании, которое победило в результате Великой Октябрьской социалистической революции. И тут он приходит к Гегелю, оговаривая, что ему нужен материалистически понятый Гегель.
Все бьются за смысл — и сам Маркс, и Энгельс (в этом вопросе разница между Марксом и Энгельсом невелика), и Ленин, и Сталин. Биться за смысл перестали, в общем-то, при Хрущеве. Ну и особенно при Брежневе. Тут-то и началась гибель.
Между тем сторонники классовой борьбы, не желающие привносить в нее никакого смысла, говорят: «Помилуйте, нет никакого смысла, кроме пожирания! Уже элементарные частицы и формирующиеся вокруг них энергетические пакеты заняты пожиранием. Всё вещественное пожирает друг друга, борясь за существование. Потом это еще более яростно делают живые существа. А потом то же самое начинают делать люди. Или людские сообщества — группы, классы. Какой смысл вы в это хотите вносить? И, если договаривать до конца, то единственный смысл и есть в самом этом пожирании, оно же воля к власти».
Утверждающие это ссылаются на Дарвина. Но у Дарвина всё было по-другому. У Дарвина был смысл! Выдернули этот смысл из дарвинизма Спенсер и Геккель.
То же самое — с Марксом. Он настаивает на том, что борьба между людьми за средства существования имеет высочайший смысл. И, конечно же, он в этом очень близок к христианству. Марксистская концепция истории повторяет христианскую. И в марксизме, и в христианстве речь фактически идет о грехопадении рода человеческого, об изгнании людей из рая (для марксизма это рай первобытного коммунизма), о борьбе человека с природой и себе подобными за хлеб насущный, о проклятии («Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Каким проклятием?), об искуплении (на кресте революции) и об обретении рая на земле. Даже Энгельс, очень настороженно относившийся к подобным слагаемым марксизма, признавал наличие сходства между марксизмом и древней мифологией.
Но мало выявить сходство между марксизмом и древней мифологией. Надо понять, к чему оно адресует в конце XIX века и уж тем более в ХХ и XXI столетиях. Адресует оно, конечно же, к определенному синтезу религии и науки. Причем такому синтезу, который потребует каких-то шагов навстречу друг другу и со стороны науки, и со стороны религии. В XIX веке приоритет науки над религией был столь велик, что любой разговор о том, что наука должна сделать хоть минимальный шаг в сторону чего бы то ни было, считался крамольным. Наука и техника в конце XIX века стали подлинными властителями умов для человечества. Но и религиозные люди не собирались делать никаких шагов в сторону науки. Поэтому самое ценное в марксизме — его страсти по смыслу истории, по истории как таковой, по смыслу как таковому — было в лучшем случае зафиксировано в виде заметки на полях. Подчеркиваю, в лучшем случае. Общественное сознание не хотело, увлекшись Марксом, видеть неких крамольных призывов (энгельсовых и других) к каким-то шагам науки навстречу чему бы то ни было. Тем более, что речь шла об очень сложных вопросах, которые и сегодня не находятся в сфере сколь бы то ни было внятной интеллектуальной разработанности.
В древнем мифе, сходство которого с марксизмом признавал даже Энгельс, всё подчинено смыслу и цели развития. То есть идее. В мифе мир подчинен идее. И это главное. Но точные и естественные науки желают видеть в мире только холодные, равнодушные закономерности. В мире не должно быть ничего, кроме закономерностей. Идеальная, смысловая сторона должна отсутствовать. Что-то с чем-то берет и сталкивается. Столкновение приводит к тому-то и тому-то в силу того-то и того-то. На вопрос «Зачем всё это?» — наука не отвечает. Она считает этот вопрос бессмысленным. Поэтому мы можем сказать, что, по сути своей, холодная наука, исследующая лишь вопрос о том, как всё происходит, а не вопрос, зачем, абсолютизирует стихийное начало.
Это же стихийное начало абсолютизировали все немарксистские ревнители классовой борьбы. Но уж никак не Маркс и тем более не Ленин. Для Маркса исторический процесс, запускаемый в том числе и борьбой классов, сочетает в себе стихийное начало и высокий смысл. Хотя бы потому, что своими страданиями и своей борьбой обездоленные подталкивают господ к окончательному выявлению их сущности. А такое выявление сущности, при котором господам приходится встретиться с собой и увидеть свое лицо, чревато и символической, и управленческой, и иными катастрофами. По ту сторону которых мир освобождается от зла. А человек, утерявший себя, возвращает себе свою сущность.
Окончательный смысл состоит в том, что человек должен себя досоздать в процессе своей деятельности. А сделать это он может только по ту сторону борьбы за средства существования. Именно по ту сторону этой низкой, отвратительной борьбы прекращается предыстория человеческого общества и начинается его действительная история. А теперь я хотел бы задать собравшимся два вопроса.
Вопрос № 1. Столь ли привлекательна для вас борьба за средства существования, чем бы она ни кончилась в вашем конкретном случае?
Ну, удалось вам завоевать больше средств существования, чем другим. И что из этого? Вы, участвуя в этой борьбе, не выявляете, а искажаете себя. И, конечно же, не можете досоздать себя в процессе этой деятельности. Жизнь конечна. Вместо того чтобы досоздать себя в процессе деятельности, вы себя уродуете борьбой за существование. И равно проигрываете, добившись успеха или не добившись.
Вопрос № 2. Что мы имеем в виду под средствами существования, за которые надо бороться? Понятно, что это прежде всего хлеб насущный. Понятно также, что в эпоху Маркса трудящихся вообще и рабочий класс в первую очередь посадили на такой голодный паек во всем, что касается хлеба насущного, что разговор о любых других средствах существования казался избыточным.
Но сейчас-то это не так. Мы все понимаем, что новая ситуация возникла в связи с существованием СССР — и страхом господствующего класса капиталистических стран перед восстанием трудящихся, находящихся на голодном пайке. Трудящихся накормили или подкормили — не важно. По крайней мере, их накормили или подкормили на Западе.
Но даже в XIX веке, когда разговор о любых средствах существования, кроме хлеба насущного (питания, крова, одежды и так далее), казался ханжеским, избыточным — Маркс вел этот разговор. Другие его не вели. А Маркс вел. А уж теперь-то этот разговор должен быть основным. Между тем, его вообще не ведут!
И почему, собственно, надо говорить о классовой борьбе именно как о борьбе только за средства существования? Понятно, что людям нужно есть, одеваться, иметь крышу над головой. И если они этого лишены, то их человеческая сущность искажена. Но она может быть искажена и в случае, если они этого не лишены. Шекспировский король Лир говорит:
Сведи к необходимостям всю жизнь, И человек сравняется с животным.
Ему вторит шекспировский Гамлет:
...Что значит человек, Когда его заветные желанья — Еда да сон? Животное — и все.
Поэтому категорически необходимо сегодня говорить, совершенно не искажая этим марксизм, не о борьбе за средства существования, а о борьбе за средства, необходимые для восхождения. Оно же — досоздание человеком самого себя.
Если у вас нет самого элементарного, вы отвлечены от досоздания себя, отвлечены от восхождения неминуемой борьбой за выживание, то вы не можете полностью уничтожить в себе природное начало — начало, в чем-то звериное. Но если у вас есть это элементарное, вам оно предоставлено в каком-то из вариантов, то это не значит, что у вас не отняли нечто другое — те средства, с помощью которых вы только и можете быть человеком. То есть существом восходящим. Подарив вам всё необходимое и отняв у вас средства для восхождения (это тот самый круг, который я нарисовал, — «круг отчуждения»), вас превращают или в скота — если удалось отнять у вас не только средства к восхождению, но и тягу к восхождению, — или же в невротика. Который чувствует, что у него отняли какие-то средства, позволяющие ему осуществлять именно человеческое существование и являющиеся — внимание! — высшими средствами существования. Но невротик даже не знает, что это за средства. Он совсем не знает, как бороться за то, чтобы вернуть то, что отняли. И он просто сходит с ума от всего этого.
Изымание не всех средств существования, а именно высших средств существования — вот характернейшая черта XXI века. Разве Маркс не говорил об этом в своей теории отчуждения? Конечно же, говорил, утверждая, что корень всех форм отчуждения в отчуждении труда. И что первой формой такого отчуждения является частная собственность. А второй, между прочим, разделение труда.
Маркс пишет, что отчуждение проявляется как в том (подчеркнуто мною — С.К.), что мое средство существования принадлежит другому, что предмет моего желания мне недоступен, поскольку им обладает другой, так и в том (подчеркнуто мною — С.К.), что каждая вещь сама оказывается иной, чем она сама. Что моя деятельность оказывается чем-то иным. И что, наконец (а это относится и к капиталисту), надо всем вообще господствует нечеловеческая сила.
А вот еще одна цитата из Маркса: «...предмет, производимый трудом, его продукт, противостоит труду как некое чуждое существо, как сила, не зависящая от производителя. Продукт труда есть труд, закрепленный в некотором предмете, овеществленный в нем, это есть опредмечивание труда».
Маркс говорит о том, что отчужденный труд делает производителя не только рабом буржуа, но и рабом предмета.
«В результате, — пишет Маркс, — получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д. (Прошу оценить прогностическое изящество формулировки — расположась, украшая и так далее — С.К.) А в своих человеческих функциях, — пишет Маркс, — он чувствует себя только лишь животным. То, что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что присуще животному».
Человеческое превращается в то, что присуще животному... Это означает, что человек начинает бороться за примитивные средства существования так, как борется животное, потому что примитивные средства человеческого существования такие же, как примитивные средства существования животного. В сфере примитивных средств существования человек недалеко ушел от животного. Он добывает нечто большее для того, чтобы так же, как животное, есть, пить, совокупляться. Он добывает это нечто для того, чтобы сооружать более совершенную нору (именуемую жилище), нежели та, которую сооружает животное. И он, наконец, украшается, что, между прочим, свойственно и многим животным. Вот и всё.
Что же касается непримитивных средств существования — средств развития, средств выявления своей подлинной сущности, — то отчуждение не позволяет человеку, превращенному в социоживотное, даже осознать необходимость этих средств существования, их важность, ценность. И уж тем более отчуждение не позволяет понять, как прорваться к этим средствам, как их отвоевать. Однако даже чудо прорывания к таким непримитивным средствам существования и их отвоевывание не имеет решающего значения, потому что устройство мира препятствует полноценному использованию этих средств, какое возможно, только если ты их используешь вместе со всеми представителями рода человеческого.
Начиная рассматривать примитивные средства существования (обеспечивающие еду, питье, размножение и так далее) как свое подлинное человеческое существование, человек действительно превращается в животное. Его превращают в животное. Ибо он рассматривает эти свои низшие функции в качестве единственно существующих. Человеческая животность начинает вытеснять подлинную человечность, занимать ее место, в каком-то смысле пожирать ее. Именно это делает капитализм.
Маркс утверждает, что отчужденный труд, осуществляя все эти подмены, (цитирую) «тем самым отчуждает от человека род: он превращает для человека родовую жизнь в средство для поддержания индивидуальной жизни». Тем самым сущность человеческая превращается «только лишь в средство для поддержания своего существования».
Труд — это сущность. Низшие средства существования — это животность. Отчуждение — это продажа человеческого первородства, каковым является труд как восхождение, за чечевичную похлебку животности, то есть за низшие средства существования.
Для Маркса всё это — превращение человека в скота и кража у человека его собственной человеческой сущности — и есть страшное зло, борьба с которым является единственным способом спасения человечества. То есть Маркс ненавидит борьбу за низшие средства существования, считает вовлеченность человека в эту борьбу преступлением перед человечностью.
А псевдомарксисты считают, что Маркс хотел, создав партию марксистов, возглавить борьбу за низшие средства существования и, победив в этой борьбе, оптимально организовать распределение этих низших средств существования между двуногими животными, зачем-то наделенными разумом. И ведь понятно, зачем. Чтобы низших средств существования становилось побольше. То есть чтобы в максимальной степени удовлетворились растущие материальные потребности трудящихся, они же растущие потребности в обретении низших средств существования.
Такое извращение марксизма не могло не изменить целевую функцию, саму траекторию пути. Став другим, этот путь привел, во-первых, к формированию массы людей, не способных бороться за что-либо, в том числе и за низшие средства существования. Потому что кормушка оказалась гарантирована. И можно было только ворчать по поводу того, каков корм, сколько его и так далее.
Став другим, этот путь привел, во-вторых, к сопоставлению кормушек: здешней, советской — и западной. Достаточно было чуть-чуть исказить содержание западной кормушечности и спрятать подлинное ее содержание от советского человека, который не мог ознакомиться с настоящей западной жизнью, ибо жил за железным занавесом, — и готово. Возник миф о западной суперкормушечности. А в той мере, в какой всё стало определяться кормушкой, данный миф породил требования: «Хотим, чтобы было, как на Западе. Хотим стать частью Запада». И так далее.
Став другим, этот путь привел, в-третьих, к тому, что какая-то часть общества возжелала борьбы за низшие средства существования. А поскольку идеологически эта борьба была запрещена, то возжелавшие ее уходили в тень, в запрещенный сектор, в экономический андеграунд. И там, борясь за средства существования, убивая друг друга, садясь в тюрьмы и так далее, эти люди превращались из жвачных двуногих существ, согласных на обычную кормушку, в хищников, грызущихся за более сочные примитивные средства существования. А в борьбе жвачных с хищниками побеждает хищник. Хищника может победить только человек, а человек не может жить кормушкой. И человек должен уметь бороться.
Смена пути, произошедшая вследствие глубочайшего искажения марксизма, порождала далее создание разного типа людей, в одинаковой степени обусловленных низшими средствами существования. Хищники не могли в итоге не пожрать мирных кормушечников. Общество «ням-ням», в которое медленно, но неуклонно превращалось советское общество, было обречено на пожирание чужими господами и собственными хищниками.
Ровно к этому моменту о пролетариате и его миссии перестали говорить вообще. Равно как и о высшем смысле. Общество было объявлено бесклассовым. А высший смысл — отнят. Ну и о каком марксизме, ленинизме и так далее могла идти речь в этом случае?
Добавим к этому вопрос о партии.
Как я уже говорил, Ленин грезил партией, которая постоянно будет, прошу прощения, в лошадиных дозах внедрять высший смысл в пролетариат. Если нет высшего смысла, если партия не может и не хочет его вырабатывать и если она его не внедряет в пролетариат (которого тоже нет, а значит, и внедрять некуда — общенародное государство) ни в каких дозах, то что такое партия? И какое отношение формируемое общество имеет к марксистско-ленинско-сталинскому социализму? И уж тем более к коммунизму?
Если партия не производит смысл и не внедряет его в пролетариат, если нет пролетариата (то есть даже непонятно, в кого внедрять этот смысл), то почему она — партия — всё время пухнет? И чем она является в этом своем распухшем виде? Распределителем кормов? Опухолью? Ну так это же есть часть теории марксизма. Единственным, кто пытался сказать, что пролетариат должен сам «кумекать», то есть вырабатывать смыслы, был Богданов. Другие — Маркс, Ленин, Каутский — говорили, что «кумекать» должна партия. Образно говоря, партия должна непрерывно держать «шприц», наполненный смыслом, наготове. Нет этого — конец!
Отдельные реликтовые черты социализма какое-то время еще сохранялись. Хомо советикус, согласный на обычную кормушку и не вовлеченный в драку за низшие средства существования, способен был честно, нравственно и даже в чем-то духовно существовать. Искажение пути не может сразу убить всё то, что закладывали в общество отцы-основатели. Хищников, рвущихся к борьбе за примитивные средства существования, какое-то время репрессивно подавляют. Но созданная модель в силу вышеописанных подмен — обречена.
Кроме того, вопрос о высшем смысле вообще снят с повестки дня. Нет колоссальных духовных целей, четко декларируемых именно советским проектом. А что такое человек, вырванный из хищной борьбы за средства существования и одновременно отчужденный от высших смыслов, от смыслов истории и так далее?
Это тоскующее существо. Нет «шприца смысла» — и всё! Чем именно оно будет гасить тоску? Или ничем (и тогда тоска будет нарастать). Или разрешенными способами наращивания животных слагаемых своего существования. Или тайными инъекциями каких-то высших смыслов в широком диапазоне от религии и достаточно безвинной эзотерики — до фашизма. Чем больше этих инъекций — тем больше динамита, который взорвет советский проект. Все это понимали на Западе. И всё это заставили служить делу разрушения СССР и демонтажа советского проекта. И тут следует по-настоящему обсудить тему КПСС.
Ленин, видя в партии фабрику по производству высших смыслов и одновременно некий супершприц, которым надо осуществлять инъекции высших смыслов в недоосознающие себя пролетариат и общество в целом, не мог не беспокоиться по поводу того, что партия перестанет производить эти высшие смыслы, перестанет быть супершприцем и супердоктором одновременно. Но ведь тогда всё рухнет. И Ленин понимал и ужас этого обрушения, и свою личную ответственность за это, и всю меру обусловленности реального марксизма-ленинизма тем, насколько партия сохранит за собой функции фабрики по производству смыслов, супершприца для инъекций и так далее.
В одном докладе всё обсудить невозможно. Но признаем очевидное. Что еще до своего краха партия вопиющим образом перестала быть и фабрикой по производству высших смыслов, и супершприцем, и доктором.
А ведь и Маркс, и Ленин не мыслили никакой победы коммунизма вне такой роли партии — руководящей и направляющей. Единственный, кто говорил о том, что нужно научить сам пролетариат извлекать из себя высшие смыслы, себя же ими накачивать, был Богданов. Не хочу здесь ни особо обсуждать его роль, ни представлять его супергением. Потому что это неправда. Но концепция партии, привносящей высшие смыслы, тоже оказалась несостоятельной, потому что партия отказалась и вырабатывать эти высшие смыслы, и доносить их до людей.
Может быть, после этой моей констатации еще в большей степени станет ясно, почему наша школа называется Школой высших смыслов. Потому что для того, чтобы вести борьбу, надо научиться и вырабатывать эти самые высшие смыслы, и доносить их до людей. Причем научиться всему этому можно, только сочетая процесс борьбы с процессом обучения.
Итак, необходимо говорить о перерождении КПСС, перерождении всей советской элиты, об обесточивании в плане отсутствия высших смыслов, о разрыве всех каналов, по которым эти смыслы должны были передаваться, о вовлечении преданного всем этим народа в инволюционную спираль животности, о победе этой животности, о формировании в результате этой победы зоны на месте страны, о превращении обитателей зоны в слизь — и об искуплении всего случившегося, невозможном, если случившееся не вызывает очень острых реакций.
Разумеется, враг предполагал возможность такого искупительного начинания внутри России, превращенной им в зону. Поэтому он сделал особую ставку на технологии расчеловечивания российского населения, позволяющие превратить его в слизь. Потому что именно это превращение лишало Россию шанса на какие-либо реванши, какие-либо восстановительные реакции.
Я совсем коротко скажу о том, как такой проект слизи соотносится с мировыми тенденциями.
Маркс был уверен в том, что развитие — хотя бы на его техническом уровне — будет только нарастать. Что хищность буржуазии побудит ее подхлестывать развитие ради прибыли. Маркс сетовал на разрушительность, негуманистичность этого развития. Но он считал его неотменяемым. И, конечно, он к нему относился позитивно, как к любому развитию. То же самое — Ленин. Раз имеет место неравномерность развития, значит вовлеченные в эту неравномерность национальные буржуазии будут развивать пролетариев, дабы развивать производительные силы.
Необходимость развития пролетариев для развития производительных сил — это еще одна несомненность марксовой эпохи. Это марксова теория могильщика: развиваемый с целью развития производительных сил пролетариат является могильщиком капитала. Где сегодня это развитие производительных сил? И где этот развиваемый пролетарий?
Еще одна несомненность — несомненность истории. История будет длиться, — говорили Маркс и Ленин. И никто из буржуа ничего с этим поделать не может. История мощнее, чем господствующий класс. Она является бурным потоком, который всех тащит в определенном направлении. У нее есть неотменяемая направленность и могучая энергетика. Это можно называть линейной теорией прогресса или христианской стрелой времени. Но в любом случае Маркс, Ленин и другие даже помыслить не могли о том, что господствующий класс обретет такое могущество, которое позволит ему противостоять законам истории, подавлять всяческую историческую энергетику. Что этот господствующий класс сможет и отменять развитие, и отрывать развитие производительных сил от человеческого развития как такового.
Все это стало возможно в конце ХХ века. И мы, «Суть времени», впервые в наших концептуальных документах обратили на это внимание и потребовали приведения мировоззрения в соответствие с новой реальностью.
Здесь я могу поделиться одним своим мелким, но значимым воспоминанием. Где-нибудь в начале 60-х годов чудо техники под названием телевизор добралось и до нашей семьи. На холодильник был поставлен некий прибор с маленьким экраном и большой линзой. И можно было смотреть новости, другие передачи, художественные фильмы хорошего качества. Соседи по квартире (а квартира была коммунальной), не обладавшие этим чудом техники, приходили к нам, чтобы посмотреть какой-нибудь шедевр. Моя мать аккуратно отсаживалась в сторону и читала книгу. Однажды, после очередного просмотра (соседи к нам, конечно, приходили совсем не часто) она мне сказала, указывая на телевизор: «Он хуже атомной бомбы».
Мне было лет четырнадцать. Я вознегодовал: «Атомная бомба убивает людей, а это техническое устройство приобщает их к чему-то». Мать не стала со мной спорить, она только повторила, снова ткнув пальцем в телевизор: «Он намного хуже атомной бомбы».
Пройдет немного лет, и западные философы прямо скажут о том, что эра телевидения — это эра конца истории. Конечно, дело не в самой технике, а в том, в чьих руках она находится. И, конечно же, конец истории нельзя сводить к появлению телевидения. Но поскольку проблематизация истории уже возникла и для всех очевидна, то классический марксизм-ленинизм хотя бы в этом аспекте уже не работает, не отвечает новой реальности. И таких аспектов много.
Впрочем, самый главный из них, конечно же, смысловой. Человечество не хочет и никогда не примет историю, в которой нет высших смыслов. Либо человечество начнет искать их вне истории. Либо человечество сойдет с ума и уничтожит себя. Либо человечество все-таки найдет их в истории. Но найдя их в истории, человечество окажется не дитятей, получившим лекарство от дяди-доктора под названием история, а взрослым человеком, спасшим историю. То есть принудившим ее вновь стать плодоносящей, смыслонаполненной.
В этом главная задача, вне решения которой нельзя говорить ни о спасении России, ни о спасении человечества.